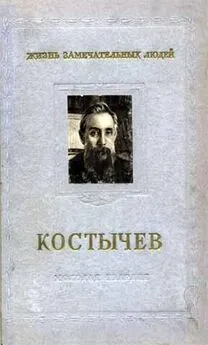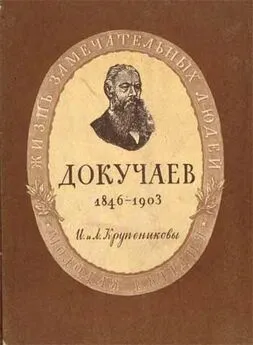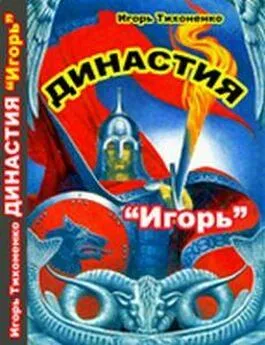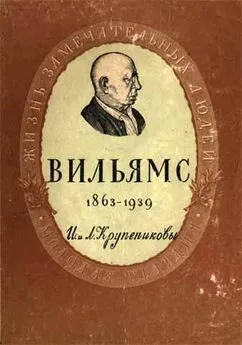Игорь Крупеников - Костычев
- Название:Костычев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1955
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Крупеников - Костычев краткое содержание
В книге рассказывается об удивительно плодотворной научной и педагогической деятельности Павла Александровича Костычева. Сын «крепостного дворового человека майорши Петровой», окончив курс уездного училища с отличными успехами и получив «вольную» в 1861 году, поступил в Московскую земледельческую школу. Вся дальнейшая деятельность П. А. Костычева была посвящена изучению различных аспектов сельскохозяйственной деятельности. Ученый изучает почвы России, их химический состав, впервые говорит о восстановлении почв; изучает вопросы лесоразведения; прослеживает «Связь между почвами и некоторыми растительными формациями» (доклад на VIII съезде русских естествоиспытателей и врачей); изучает причины засухи и говорит о мерах борьбы с ней; разрабатывает проект агрономического образования в России.
Костычев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Часто встречаясь с подобного рода фактами, находящимися, повидимому, в противоречии с установившимися научными воззрениями, П. А. Костычев пришел к тому выводу, что «при наблюдениях над русским хозяйством приходится часто встречать факты, необъяснимые с точки зрения общепринятой теории, потому что у нас могут возникнуть такие вопросы, к постановке которых в Западной Европе нет никаких поводов».
Во «время поездок Костычев особенно старательно изучал все факты, относящиеся к удобрению почв. Он все больше и больше убеждается в том, что в деле повышения плодородия почвы сельское хозяйство не может обойтись только своими силами: здесь нужна помощь промышленности, изготовляющей искусственные удобрения. Но такой промышленности в России не существовало. Передовые люди страны — Д. И. Менделеев, А. Н. Энгельгардт — задумываются над задачей создания отечественной туковой промышленности. Такие мысли владели и Костычевым, и он своей (неустанной пропагандой русских фосфоритов немало содействовал организации первых небольших заводиков по изготовлению фосфоритной муки.
Но дело это шло вначале довольно вяло, и мука не находила достаточного сбыта. Используя всякую возможность для пропаганды необходимости организации в России своего тукового производства, Костычев попутно обращает внимание на удобрительное значение отходов некоторых отраслей промышленности. Когда он путешествовал по свеклосахарным районам Украины, ему не раз приходилось наблюдать, что отходы сахарных заводов используются как удобрения. Ученый расспрашивал, какой это дает эффект, определял химический состав отходов- в своей лаборатории и пришел к заключению, что они содержат много питательных веществ. А ведь существуют и другие производства, отходы которых могут иметь такое же значение. И Костычев расширяет круг своих наблюдений. В «Земледельческой газете» появляются его заметки: «Об удобрительном действии разных остатков от свеклосахарного производства», «Об остатках кожевенного производства как удобрении», «О приготовлении компоста из остатков от убоя скота». Позднее на страницах журнала «Хозяин» он подымает вопрос об использовании в качестве удобрений глауконитовых песков, содержащих много калия и широко распространенных в разных частях России.
Костычев обращает внимание на огромное распространение болот в нечерноземной полосе страны. Ими изобиловала и хорошо знакомая ему Смоленщина, много их было в окрестностях Петербурга, Новгорода и в других местах, близко знакомых ученому. В болотных почвах, содержавших нередко пятьдесят и более процентов органического вещества, были сконцентрированы колоссальные богатства пищи для растений. Но эти богатства лежали здесь мертвым сокровищем и их нельзя было использовать. Костычев приходит к выводу, что надо известковать болотные почвы, это устранит их кислую реакцию, которая тормозит разложение органических веществ и образование доступной растительной пищи.
«Таким образом, — писал Костычев, — прибавка извести существенно способствует переходу мертвого индифферентного запаса… в материал химически деятельный, способствующий… питанию растений».
Каждая из этих заметок в отдельности являлась, казалось бы, мелочью, но все они вместе свидетельствовали о стремлении ученого содействовать усилению круговорота питательных веществ в почве. А о«, по убеждению Костычева, и составлял сущность плодородия почвы. Но круговорот этот постоянно нарушался, и новые капиталистические порядки в деревне способствовали этому. Маркс указывал, что крупная промышленность в сельском хозяйстве «действует с величайшей революционностью», совершенствуя его технику, но одновременно влияет здесь и отрицательно. В связи с ростом промышленности, ее концентрацией в немногих местах, увеличением городского населения капиталистическое производство «препятствует обмену веществ между человеком и землей, т. е. возвращению почве ее составных частей, использованных человеком в форме средств питания и одежды, т. е. нарушает вечное естественное условие постоянного плодородия почвы»{ К. Маркс. Капитал, т. I, 1953, стр. 508, 509.}.
Костычев прекрасно понимал, что не сбережение «богатств почвы», не «полный возврат» в понимании Либиха, а именно усиление круговорота веществ должно явиться краеугольным камнем научного земледелия. Этот вывод явился результатом долголетних раздумий, тысяч и тысяч наблюдений, критического метода мышления Костычева.
Он и раньше, отмечая ошибки Либиха, порочность всяких теорий «полного возврата», «статики земледелия», высказывался за динамическое понимание плодородия почвы. Постепенно мысли его, под влиянием обобщения практики, делались более четкими. В своей замечательной статье 1890 года «О некоторых свойствах и составе перегноя» ученый с предельной ясностью излагает свои воззрения на плодородие почвы. Вот о чем он писал здесь:
«Случается, что мысли и знаменитых ученых… приносят вредные последствия. В этом отношении можно привести в пример хотя бы Либиха, заслуги которого в сельском хозяйстве велики и неоспоримы; но он, в заботах об устранении истощения почвы, пустил в оборот мысль, что мы должны как можно меньше истощать наши почвы в интересах блага будущих поколений. Нет сомнения, что эта мысль в применении ко многим случаям представляет бесспорную несообразность…»
И тем не менее, продолжал Костычев, эта идея Либиха получила самое широкое распространение — настолько широкое, что ученых, высказывавших сомнение в ее справедливости, немедленно зачисляли в разряд эгоистов, не заботящихся о своих потомках. Костычев шутливо говорил, что его, очевидно, ожидает такая же, если не более жестокая, участь, но он все же считает мысль Либиха не только сомнительной, но и «несправедливою вообще, — то-есть для каких бы то ни было случаев».
«В самом деле, — писал он дальше, — стремление не истощать почву не есть ли желание оставить в почве как можно больше мертвого капитала в надежде, что когда-нибудь кто-то воспользуется этим капиталом? Для чего это нужно? Не лучше ли этот мертвый капитал извлечь из почвы и пустить его в общий оборот? Несомненно, что при этом получится более средств не только для поддержания плодородия земли, но и для возвышения его до таких пределов, о которых мы теперь и не думаем». И он пророчески заканчивал: «В будущем, надо надеяться, узнают такие способы обогащения почвы, о которых мы теперь не имеем ни малейшего представления». Такова была вера Костычева в грядущий прогресс науки, не знающий преград и ограничений. Сам же он своими исследованиями и теоретическими обобщениями постоянно содействовал этому прогрессу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: