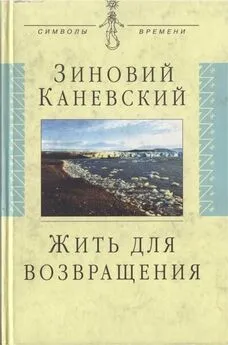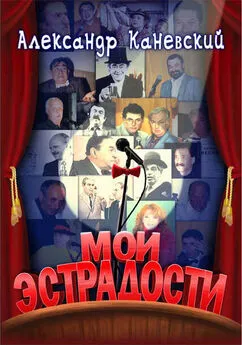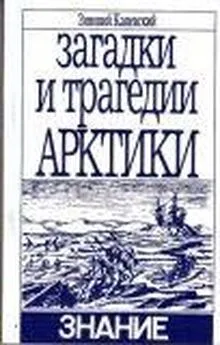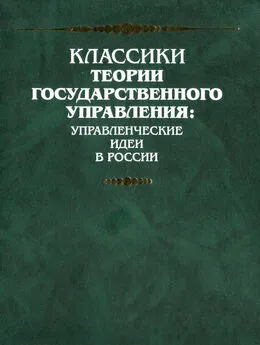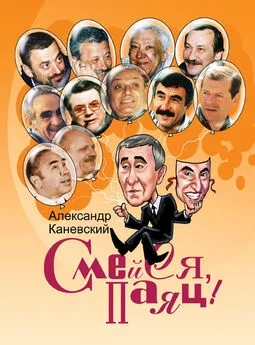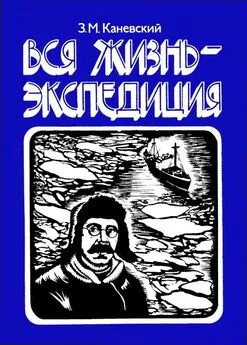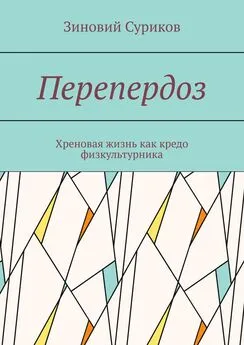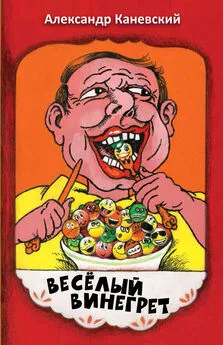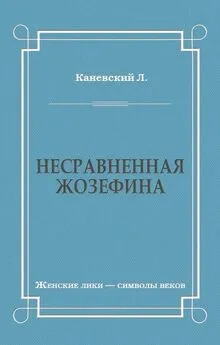Зиновий Каневский - Жить для возвращения
- Название:Жить для возвращения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-7784-0178-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Зиновий Каневский - Жить для возвращения краткое содержание
Посмертная книга Зиновия Каневского (1932–1996) — это его воспоминания о жизни, о времени, в котором он жил, о людях, с которыми встречался, о трагедии, произошедшей с ним в Арктике, и о том, как ему, инвалиду без обеих рук, удалось найти свой новый путь в жизни.
Первая часть написана в форме повести и представляет собой законченное произведение. Вторая часть составлена из дневниковых записей и литературных заготовок, которые он не успел завершить.
Жить для возвращения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот так примерно шла моя жизнь на протяжении шестидесятых годов, восемь лет подряд. Как-то мне на глаза попало интервью знаменитой фигуристки Ирины Родниной. Ее спросили, трудно ли быть чемпионкой мира, Европы и Олимпийских игр, и она ответила остроумно:
— Первые восемь лет тяжело, потом привыкаешь!
Цифры совпали, мне первые «новые» восемь лет дались нелегко. К счастью, в «привычку» это не вылилось — мне помогли друзья, и одним из первых стал Натан Эйдельман.
Глава вторая
ТАРТАРЕН, НАДО ЕХАТЬ
Натана Яковлевича Эйдельмана близкие называли Тоником. Естественно, острили: «Джин с тоником», «Тонизирующий напиток», «Сыграем в бадминтоник» и т. п. Для меня он изначально был Натаном, и только в самые последние годы я стал звать его Тоником (хотя с давних пор он именно так подписывал даримые нам книги).
Сначала с семьей Эйдельманов познакомилась Наташа, поскольку летом 1953 года сыграла пусть не громкую, но добрую роль в их жизни. Тогда после третьего курса Наташа проходила практику в Воркуте, а я — на Таймыре. Как раз из Воркуты пришло ко мне в Игарку ее письмо, полное впечатлений об увиденном в том концлагерном краю. Правда, автор соблюдал осторожность и каких-либо фактов не приводил — подробности Наташа рассказала мне уже глубокой осенью, когда мы оба возвратились в Москву из своих экспедиций.
В Воркуте летом 1953-го прошли массовые волнения в лагерях. После смерти Сталина (март) и ареста Берии (июнь) заключенные потребовали пересмотра лагерного режима, амнистии политическим (для уголовников она уже состоялась) и вообще много такого, для чего еще, по мнению властей, не наступило время, и потому они кроваво расправились с бунтовщиками. Зоны, над которыми поднялись самодельные призывы «Ни грамма угля Родине!» (каков, однако, лозунг, а?!), были заняты солдатами внутренних войск, высшие чины МВД прибыли в Воркуту чинить скорый и неправый суд. Каждого десятого выводили из строя на расстрел. Заключенному Эйдельману Якову Наумовичу посчастливилось не попасть в число смертников, и он дожил до прижизненной реабилитации.
Отец Натана был человеком ярким и храбрым. Талантливый журналист, он владел несколькими языками. Отважно воевал на фронтах первой мировой и Отечественной войн, а после Победы возглавил на Всесоюзном радио редакцию, вещавшую для зарубежных слушателей на темы советского театрального искусства. Яков Наумович писал острые критические статьи о спектаклях на современную тематику, не щадя самолюбия таких именитых драматургов-лауреатов, как Анатолий Софронов, Анатолий Суров, Николай Вирта. И стал одним из главных кандидатов на истребление, едва началась кампания борьбы с космополитизмом. Получив большой срок (восемь или десять лет), он отправился в 1950 году в глубину заполярных шахт.
Наташа проходила практику на воркутинской мерзлотной станции, чей персонал в большинстве своем состоял из бывших и даже сущих заключенных. Зона располагалась буквально за стенами станции, лагерный быт витал над всем и вся. Надо еще добавить, что одна Наташина родственница, сама потерявшая в репрессиях мужа в середине 30-х годов, тесно общалась со своей коллегой, школьной преподавательницей английского языка Марией Натановной Эйдельман, чей муж пребывал в Воркуте. Остальное домыслить несложно: Наташины знакомые — тамошние старожилы — в 1954 году помогли Марии Натановне устроиться в Воркуте и добиться свидания с мужем. А когда Яков Наумович вернулся в Москву, Наташа познакомилась в их доме и с ним, и с его сыном Натаном, молодым историком, окончившим МГУ на три года раньше нас. После реабилитации Яков Наумович не восстановился на прежнем месте в радиоредакции, предпочтя работу корректора в каком-то заурядном издательстве, а затем — шестидесятирублевую пенсию. Натан всю жизнь восхищался благородной гордостью своего отца.
С Натаном у нас к тому же оказались общие приятели-историки, его однокашники, и начиная с 1960 года мы регулярно виделись, чаще всего — в домах друзей, его и наших. В основном (и подолгу) общались по телефону. Он обожал анекдот на эту тему: отчаявшийся дозвониться муж телеграфирует жене из Владивостока, чтобы она немедленно положила трубку.
В те времена Натан был уже на подходе к тому, чтобы сделаться «известным писателем и историком». Кандидатом наук он стал в начале 60-х годов, членом Союза писателей — в конце 60-х, но это формальности: после первых же «герценовских» книг, еще до Пушкина, до декабристов, его узнали широко и основательно.
К Герцену он пришел в какой-то степени неожиданно для самого себя. Работая в областном краеведческом музее в подмосковном Новом Иерусалиме, он обнаружил в музейных фондах переписку, связанную с Герценом. Но вот в самом-то музее Натан оказался отнюдь не случайно, его привела туда судьба интеллигента сталинско-хрущевских времен, и можно лишь благодарить ее за то, что была она к нему не столь уж беспощадной.
По окончании МГУ в 1952 году он как сын своего отца, уже грузившего в заполярной шахте уголь в вагонетки, не вправе был рассчитывать на приличное распределение, несмотря на бившую в глаза одаренность. Натан стал школьным учителем, причем даже не в Москве, а в Орехово-Зуево, и преподавал не столько историю, сколько целый набор предметов, начиная с географии, астрономии, английского и кончая чуть ли не физкультурой. Его учительская карьера, продолжавшаяся и в Москве, длилась лет семь-восемь, после чего Натан получил работу в подмосковном музее.
Все это узнавалось постепенно, от разговора к разговору, и одно только было ясно для нас всегда: мы дружим с удивительным историком-исследователем, архивистом, писателем, великим рассказчиком и остроумцем. А также — со щедрым дарителем собственных книг, снабженных добрыми, лукавыми, шутливыми надписями.
Начав творческую деятельность с Герцена, Натан Эйдельман стал в очень скором времени признанным авторитетом, тонким и глубоким знатоком всех деяний великого изгнанника и той эпохи. Его обращение к Пушкину и декабристам было совершенно неизбежным и закономерным, как и последующий «уход» в глубь веков, в XVIII, XVII, в древние столетия, причем не только русские. Натан сумел занять собственное и весьма заметное место в ряду таких старших своих современников-пушкинистов, как С. М. Бонди, Т. Г. Цявловская, И. Л. Андроников. Таким же своим был он, естественно, и в среде историков, занимавшихся декабристами, и в среде писателей, работавших в научно-художественном жанре.
В 1967 году Натан привел меня в редакцию одного из самых популярных в то время журналов «Знание — сила» (тираж 700 тысяч), в котором он регулярно публиковался и состоял членом редколлегии на протяжении двух с лишним десятилетий. Он любил всех без исключения работавших в редакции, и, конечно, они платили ему тем же. Что не мешало Тонику зубоскалить по поводу некоторых публикаций да и самого наименования журнала. Наперегонки со своим приятелем Валей Смилгой, тоже членом редколлегии, они сочиняли варианты смешных названий для самых разных вымышленных изданий. Например, орган чекистов «Признание — силой», или аграрников — «Знание — на силос!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: