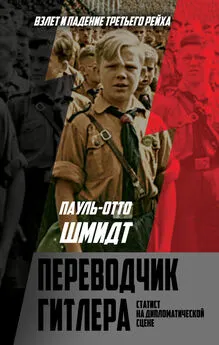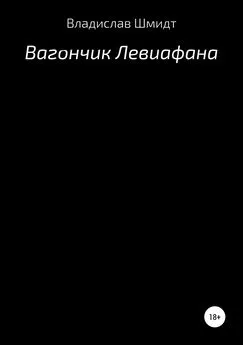Владислав Корякин - Отто Шмидт
- Название:Отто Шмидт
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2011
- ISBN:978-5-9533-5770-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владислав Корякин - Отто Шмидт краткое содержание
Знаменитый полярник, директор Арктического института, талантливый руководитель легендарной экспедиции на «Челюскине», обеспечивший спасение людей после гибели судна и их выживание в беспрецедентно сложных условиях ледового дрейфа… Отто Юльевич Шмидт — поистине человек-символ, олицетворение несгибаемого мужества целых поколений российских землепроходцев и лучших традиций отечественной науки, образ идеального ученого — безукоризненно честного перед собой и своими коллегами, перед темой своих исследований. В новой книге почетного полярника, доктора географических наук Владислава Сергеевича Корякина, которую «Вече» издает совместно с Русским географическим обществом, жизнеописание выдающегося ученого и путешественника представлено исключительно полно. Академик Гурий Иванович Марчук в предисловии к книге напоминает, что О. Ю. Шмидт был первопроходцем не только на просторах северных морей, но и в такой «кабинетной» науке, как математика, — еще до начала его арктической эпопеи, — а впоследствии и в геофизике. Послесловие, написанное доктором исторических наук Сигурдом Оттовичем Шмидтом, сыном ученого, подчеркивает столь необычную для нашего времени энциклопедичность его познаний и многогранной деятельности, уникальность самой его личности, ярко и индивидуально проявившей себя в трудный и героический период отечественной истории.
Отто Шмидт - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, решение в одной из самых рискованных ситуаций, характерных для экспериментального плавания, было коллективным, когда каждый нес свою долю ответственности на основе научного предвидения, которое нельзя было считать прогнозом. При этом каждый исходил из собственных представлений о значении предстоящего похода: Шмидт явно стремился на «белые пятна», считая, что они могут дать наиболее интересные научные результаты (хотя и с долей присущего ему в ту пору рекордсменства как следствия прошлого увлечения альпинизмом); Визе как ученый — в поисках новой информации; а Воронин (при всей ответственности, ложившейся на него) осваивал новые для себя полярные акватории. В полном смысле это было общее коллективное решение, которое в большинстве случаев оказывается успешным. Таким оно вышло и на этот раз.
Судно отсчитывало милю за милей в плавании на север, а к удивлению мореходов лед пока не появлялся, словно до поры до времени затаившись в засаде. В этом плавании Гаккель заново определил размеры острова Шмидта, площадь которого, по его наблюдениям, составила 75 (по современным данным — 440) квадратных километров. На мостике пошли разговоры об отсутствии льда, на что Воронин отреагировал по-своему: — «Погодите, скоро появятся, успеете налюбоваться…» Действительно, вскоре по курсу обозначилось ледяное небо — отсветы дальних ледяных полей на нижней кромке облаков. Визе, мечтавший выйти на большие глубины и получить характеристики вод Центрального Арктического бассейна для сравнения с наблюдениями Ф. Нансена на «Фраме» понял, что его надеждам не суждено было сбыться. Судя по максимальным измеренным глубинам в 313 метров на 81°28′ с. ш., судно оставалось в пределах материкового склона. Дальнейший путь к северу становился чересчур рискованным и в 12 милях от наиболее северного пункта архипелага последовала смена курса на юго-восток. Позднее, в сопоставлении с новыми данными о глубинах, стало ясно, что усилиями судоводителей и ученых «Сибиряков» оказался в обширном разводье, приуроченном, наподобие Великой Сибирской полыньи, к кромке материковой платформы Евразийского континента. Загадочная Арктика еще раз озадачила исследователей, вплотную подводя к очередной проблеме. Гаккелю спустя два десятилетия предстояло увязывать закономерности ледовой обстановки с характером подводного рельефа. Но в первой мере он ощутил эти связи именно в походе на «Сибирякове» под водительством Шмидта.
Поскольку в навигацию 1932 года история соединила штурм будущей сквозной ледовой трассы из портов Российского Севера и Дальнего Востока в некую совместную операцию двумя разными экспедициями, очевидно, необходимо вернуться к Особой Северо-Восточной экспедиции. Это тем более важно, чтобы читатель мог почувствовать разницу в методах освоения Арктики по Шмидту и ГУЛАГом. Пока лишь отметим, что после жестоких ледовых баталий 15 августа у мыса Сердце-Камень в Чукотском море (до цели плавания оставалось еще не менее 1300 километров) Евгенов вынужден был созвать совещание капитанов судов на тему — что делать дальше? В литературе нет указаний, существовала ли попытка ледового прогноза на лето 1932 года для Чукотского моря. Похоже, моряки столкнулись с непредвиденной ситуацией, что, с точки зрения их заказчика, могло быть истолковано как преднамеренный саботаж со всеми вытекающими последствиями. К этому был особенно чувствителен сам Евгенов со своим офицерским прошлым. На совещании страсти накалились настолько, что ряд капитанов «…Сиднев и Хренов решительно утверждали, что задание невыполнимо. Сиднев вообще предлагал немедленно прекратить попытки продвижения и возвратиться обратно. Он сказал капитанам: «Если руководство экспедиции не послушается, то нам остается взять шапки и уйти с совещания» (Бочек, 1969, с. 215). Сиднев был одним из наиболее опытных капитанов, причем с зимовочным опытом, но его позиция, как и Хренова, объяснялась другим. Именно на их судах в трюмах и твиндеках находилась основная масса «работников Дальстроя», которым в случае пробоины ото льда угрожала неминуемая гибель, а сами моряки, привыкшие традиционно отвечать за грузы и пассажиров, еще не освоились с методами работы Дальстроя и ГУЛАГа… Тем не менее решено было продолжать плавание на запад, но только 22 августа суда подошли к мысу Ванкарем, а спустя неделю оказались у мыса Северный, отстоящего от цели на 700 километров. Положение становилось отчаянным, и если бы не удачная воздушная разведка летчика Бердника, предпринятая 30 августа, весь поход мог бы сорваться…
Между тем на западе в ясную ночь с 16 на 17 августа «Сибиряков» оказался (судя по карте Урванцева) у восточного устья пролива Красной Армии, откуда был виден не только достаточно высокий массив горы Ворошилова, но и низкие острова Диабазовые в восточном устье пролива. Именно здесь-то и поджидало первое серьезное испытание в виде старого сплошного ледяного поля шириной до пяти миль, вплотную прижатого к берегу, видимо, «заякоренными» айсбергами, сидевшими на грунте, — судя по глубинам, редко превышавшим 40 метров. Южнее просматривались отчетливые признаки «водяного неба». С востока это поле блокировалось скоплениями тяжелых паковых льдов, заведомо сложных для «Сибирякова». Поэтому Воронин принял решение «рубиться» к открытой воде напрямую, тем более что попытки взрывных работ результата не дали. На форсирование этого поля ушло 40 часов, в течение которых капитан не позволил себе ни на минуту сомкнуть глаза. Днем 18 августа судно вышло на открытую воду у фьорда Матусевича, но, как отметил Визе, «…чистая вода баловала нас недолго, и против северного входа в пролив Шокальского «Сибиряков» снова вошел в лед» (1934, с. 93). Толщина льда местами достигала здесь трех метров — это был один из отрогов льда Центрального Арктического бассейна, временами спускающихся вдоль Северной Земли на юг.
Дальше путь «Сибирякова» проходил вдоль восточных берегов архипелага, где лед удивил бывалого моряка — Воронин так аттестовал своего противника: «Лед какой здоровый — некуда носа затащить». Чем дальше к югу, тем меньше открытой воды, вот уже исчезли последние разводья… «Сибиряков» оказался в отрогах многолетнего пакового льда из Центрального Арктического бассейна, форсирование которого заняло почти неделю, причем пришлось временами взрывать лед или окалывать его у бортов пешнями. Визе описал работу экипажа такими словами: «Полный вперед!» — ледокол наскакивает на поле, лед с шумом ломается, и судно проталкивается вперед примерно на одну треть корпуса. «Малый назад!» — ледокол осторожно отходил, опасаясь за целость руля, и затем с разбегу наносил новый удар. Пока толщина льда не превышала одного метра, мы, хотя и медленно, продвигались вперед довольно успешно. Однако по мере того, как мы забирались в глубь поля, толщина льда стала увеличиваться, и ледокол все чаще и чаще застревал. В судовом журнале расстояние, пройденное за вахту, отмечалось уже не в милях, а в кабельтовых» (1946, с. 102).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: