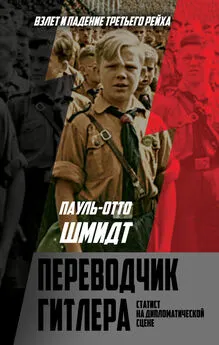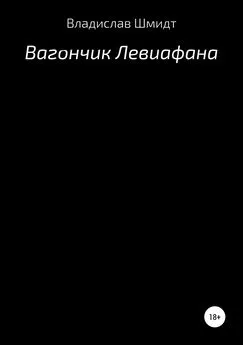Владислав Корякин - Отто Шмидт
- Название:Отто Шмидт
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2011
- ISBN:978-5-9533-5770-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владислав Корякин - Отто Шмидт краткое содержание
Знаменитый полярник, директор Арктического института, талантливый руководитель легендарной экспедиции на «Челюскине», обеспечивший спасение людей после гибели судна и их выживание в беспрецедентно сложных условиях ледового дрейфа… Отто Юльевич Шмидт — поистине человек-символ, олицетворение несгибаемого мужества целых поколений российских землепроходцев и лучших традиций отечественной науки, образ идеального ученого — безукоризненно честного перед собой и своими коллегами, перед темой своих исследований. В новой книге почетного полярника, доктора географических наук Владислава Сергеевича Корякина, которую «Вече» издает совместно с Русским географическим обществом, жизнеописание выдающегося ученого и путешественника представлено исключительно полно. Академик Гурий Иванович Марчук в предисловии к книге напоминает, что О. Ю. Шмидт был первопроходцем не только на просторах северных морей, но и в такой «кабинетной» науке, как математика, — еще до начала его арктической эпопеи, — а впоследствии и в геофизике. Послесловие, написанное доктором исторических наук Сигурдом Оттовичем Шмидтом, сыном ученого, подчеркивает столь необычную для нашего времени энциклопедичность его познаний и многогранной деятельности, уникальность самой его личности, ярко и индивидуально проявившей себя в трудный и героический период отечественной истории.
Отто Шмидт - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Глава 10
1938–1939 годы. Прощай, Арктика!
… Толпу дурных примет,
Как бы бегущих впереди событья,
Подобно наспех высланным гонцам
Земля и небо вместе высылают
В широты наши нашим землякам.
Мавр сделал свое дело, мавр должен уйти…
Ф. Шиллер.Напряжение на льдине с наступлением нового, 1938 года нарастало с каждым днем. Это происходило в первую очередь из-за борения стихий по мере приближения к фронтальной зоне на контакте вод Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Теперь в степени правдивости прогнозов разных специалистов участники эксперимента могли убедиться зрительно, в пределах того, что позволял мрак полярной ночи. То немногое, что было доступно взгляду, определенно не внушало оптимизма, если не считать даже завываний пурги и скрежета льда, новостей из эфира.
На долю Шмидта подобные ситуации выпадали по крайней мере дважды — на «Сибирякове» в 1932 году и на «Челюскине» в 1933–1934 годах. Тогда его решения вызывали восхищение как у простых советских людей, так и у советского руководства во главе со Сталиным, усиленно эксплуатировавшего арктическую тему в пропаганде. Однако теперь помимо ответственности за людей, оказавшихся в ледовых жерновах Гренландского моря в разгар полярной ночи, на Шмидте кандалами повисла еще и судьба зимовавшего на Севморпути флота, включая ледоколы. Теперь ему предстояло выбираться из такой ситуации, по сравнению с которой льдина в Чукотском море в компании с сотней вольных и невольных полярников выглядела невинным приключением. В прошлом остались огни и воды и даже медные трубы. В ближайшем будущем со всей очевидностью обозначились неумолимые волчьи зубы Великого Диктатора со своей чекистской сворой, способной, казалось, сожрать полстраны… И это на вершине мировой славы, которую принесла Шмидту полюсная эпопея!
Шмидт теперь уже не определял развития событий. Они сами несли его с собой, словно в половодье. Лишившись ударной силы в виде ледокольного флота, рассчитывать на авиацию, дежурившую на Земле Франца-Иосифа, для посадок на ледяные обломки в полярной ночи Гренландского моря можно было только с отчаяния… Впервые Отто Юльевичу предстояло выступать не на привычных первых ролях, а в качестве уже осужденного с отсрочкой наказания. При всей образности литературных сравнений реальная обстановка в первые месяцы нового, 1938 года для руководителя советских полярников была самой угрожающей, что отмечали многие его сотрудники. Так, Б. Л. Дзердзеевский в своих воспоминаниях позднее писал: «Мы случайно сошлись с Отто Юльевичем в коридоре Главсевморпути. Он отозвал меня в сторону и тихо, как всегда, спокойно сказал: «Только что получена радиограмма. Льдину разломало на несколько мелких кусков…» И тут я впервые прочел в его глазах большую тревогу…» (1959, с. 220).
Как ни опасно было положение зазимовавшего флота, в первую очередь следовало думать о снятии папанинской четверки. Ситуация с нею в наступившем 1938 году с каждым днем все больше внушала тревогу. К новому году дрейфующая станция на пути к югу пересекла 80° с. ш., а норвежцы с острова Ян-Майен и «Мурманца» на 74°23′ с. ш. наблюдали открытое море при температуре воздуха выше нуля. Складывалась непривычная для наших полярников ситуация, определявшаяся близостью Исландского барического минимума, или «кухни погоды», в Северной Атлантике, влияние которой на Советскую Арктику им предстояло определить. Обычные люди называют самые отдаленные и неприспособленных для жизни места медвежьими углами. Однако в местах, где заканчивала дрейф папанинская льдина, не жили даже медведи, и самым отчаянным авиаторам здесь было нечего делать…
А вскоре станция оказалась в пределах Гренландского шельфа: произошло падение глубин с 235 метров 27 декабря до 162 метров к 7 января. Сам дрейф к югу нарастал такими темпами, что из Москвы в начале января запросили подтверждения: «Верно ли, что 22 мили прошли за двое суток? Ваша быстрота вызывает недоумение» (Кренкель, 1940, с. 258). Ситуация на льдине, однако, чаще вызывала не недоумение, а настоящую тревогу…
Проводя наблюдения 14 января Федоров обнаружил колебания уровней теодолита — отдаленное волнение уже начало раскачивать льдину, и это был весьма серьезный признак отдаленной угрозы. Вблизи станции появились первые значительные разводья, в одном из которых опробовали байдарку — жаль, что это утлое суденышко не могло доставить отважную четверку к людям! Начальник первой дрейфующей станции оценивал положение оптимистично, судя по радиограмме от 18 января: «У нас все благополучно, все здоровы. Ледовые условия позволяют нам дрейфовать. Считаю целесообразным начать операцию в марте. Привет от всех».
В ответ Москва радировала ближайшие мероприятия: «План снятия. Первое. Бот «Мурманец» в качестве патрулирующего идет к кромке, где будет курсировать небольшом радиусе на широте нахождения вашей станции, имея задание держать с вами связь, давать ледовую, метеорологическую информацию, вооружен пеленгатором, имеет собачью упряжку». Далее сообщалось о выходе «Таймыра» с самолетами на борту в ближайшие дни из Мурманска на Шпицберген и о готовности «Ермака» в марте. Поскольку радиограмма была подписана Остальцевым (а из Москвы можно было ожидать чего угодно), на льдине задумались: а где же Шмидт, чем он занят? Оставалось ждать…
Еще 11 января в Гренландское море вышел крохотный деревянный зверобойный бот «Мурманец», водоизмещением всего 150 тонн, с капитаном И. Н. Ульяновым из поморов. Это судно (скорее, суденышко) должно было отслеживать положение ледовой кромки, не делая попыток пробиться к льдине с участниками дрейфа, лишь информируя командование о ледовой обстановке в условиях полярной ночи. Однако разведчики перестарались и спустя месяц угодили в ледовый плен. «Мурманца» в итоге вынесло через Датский пролив на просторы Атлантики, но свое дело он сделал, поскольку информация с этого ледового патруля позволила позднее уверенно действовать главным силам под флагом военной гидрографии.
Январь завершался продолжительной пургой и борьбой полярных стихий. Не случайно в своем дневнике Кренкель 21 января отметил и водяное небо, и необычно сильное торошение. Ситуация складывалась серьезная, о своей судьбе папанинцы могли только гадать, но радист-норвежец с Ян-Майена, переживавший за отважную четверку, в конце января поинтересовался у Кренкеля: «Знаете ли вы, что в феврале вас будут снимать?» (1940, с. 284).
1 февраля Федоров сделал в своем дневнике характерную запись: «Черт знает, куда нас несет. Вероятно, сильно поджало к берегу Гренландии… — одновременно отметив удары, с которыми трескалась льдина. — Если порвет, то от нас отойдет южная половина аэродрома и гидрологическая лебедка» (1982, с. 261–262). Какие люди — судьба лебедки их тревожит, не своя: «Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире прочнее гвоздей». О последних изменениях Папанин радировал Шмидту: «Лед в районе станции продолжает разламываться, обломки полей не более семидесяти метров… Разводья до пятидесяти метров. Льдины взаимно перемещаются. До горизонта лед девять баллов, в пределах видимости посадка самолета невозможна».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: