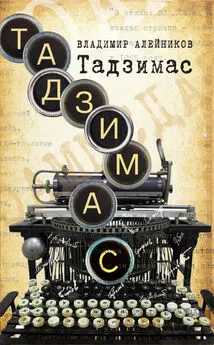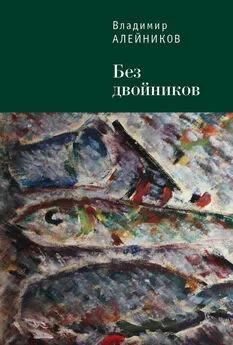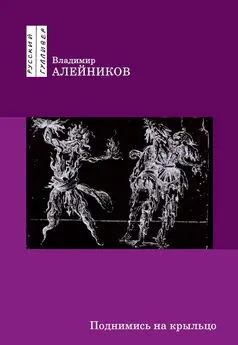Владимир Алейников - Тадзимас
- Название:Тадзимас
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РИПОЛ классик
- Год:2013
- Город:М.
- ISBN:978-5-386-0616
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Алейников - Тадзимас краткое содержание
Владимир Алейников (р. 1946) – один из основных героев отечественного андеграунда, поэт, стихи которого долго не издавались на родине, но с начала шестидесятых годов были широко известны в самиздате. Проза Алейникова – это проза поэта, свободная, ассоциативная, ритмическая, со своей полифонией и движением речи, это своеобразные воспоминания о былой эпохе, о друзьях и соратниках автора. Книга «Тадзимас» – увлекательное повествование о самиздате, серьезнейшем явлении русской культуры, о некоторых людях, чьи судьбы неразрывно были с ним связаны, о разных событиях и временах. Книга Владимира Алейникова привлечет внимание самого широкого круга читателей.
Тадзимас - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Питерские ребятки, с их промозглым рационализмом и отсыревшей в дождях и туманах имитацией раскрепощенности, свободы стиля и слога, с их ушибленностью обэриутами, коммунальным авангардизмом с Фонтанки, отдельно-квартирным абсурдом с Мойки, смесью брюсовщины с крученыховскостью, бухгалтерской трезвости с кочегарской импровизационностью, дешевой учености с головным наивом, дотошности с развязностью, с их дутым самомнением, эклектизмом, школярской вторичностью, дворовым дадаизмом и болотным классицизмом, с этим их болезненным, шатким, валким, наркотическим, хлипким душком и с полнейшим отсутствием здоровой подлинности, меня зачастую смешат.
Кстати, умный и очень многое понимающий, прозревающий, несмотря на свое сознательное, многолетнее, принципиальное, концептуальное, может быть, или просто защитное, да, вроде лат и вроде щита, необходимое, видимо, в литературных сражениях и самиздатовских подвигах, питерское, конечно же, с обэриутской закваской, но не только с нею, еще и с крученыховской прививкой, да мало ли с чем еще, если выработалось оно, как известно, давным-давно и во всем своем блеске прекрасно существует, само по себе, и подобий не ведает, ерничество, Кузьминский долгие годы всегда выделяет, из всей московской пишущей публики, только нас двоих, и в писаниях, и в посланиях бурных своих.
Ни у Куба, ни у Бродского, ни у Кривулина не поднимется никогда язык и мужества недостанет, чтобы признать: кто-то пишет лучше их. Наплевать. Переживем.В мире так все устроено разумно, между прочим, что и у человека две ноги, а не одна. Потому и нас в мире двое. Никакая это не уравниловка, Саша, боже упаси. И у нас есть свои недостатки. Но я говорю о позиции, а не о позе, о жизни, а не о пристраивании, о сущности дарования, наконец. В поэзии не может быть одного лидера. Но могут быть – двое, трое, пятеро… То есть именно плеяда. Это не спортивные соревнования. Это – душа и кровь.
Масштаб твоей поэзии таков, что все, не вошедшее, из-за „избранности“ вынужденной, кричит, вопиет, требует своего места на типографской бумаге, – под солнцем-то, к счастью, есть у него место.
Нелепейшая, бредовая ситуация с изданиями, отравлявшая жизнь и ранее, приведшая к болячкам, драмам, заставлявшая прежде всего самим себе доказывать, что ты еще прочен, что есть этот самый порох, что стоек ты, вопреки всему, так и норовящему подкосить эту стойкость, что выстаивал, поднимался ты из бед и в прежние годы не напрасно, и еще выстоишь, и поднимешься, и в работе найдешь спасение, и скажешь еще свое слово, и действительно скажешь его, и сызнова скажешь, и останется это слово, как и встарь, на бумаге, в рукописи, в лучшем случае в самиздате, в этих наших бесчисленных сборниках самодельных, читаемых в основном людьми самиздата, надежными и достойными, это так, и круг этот вроде широк, но изданий нормальных все нет, и когда они будут, неясно, хоть должны ведь когда-нибудь быть, и опять восстаешь, и работаешь, говоришь свое слово, движешься дальше, глубже, вперед и ввысь, а года идут, и растет пресловутый „корпус“ писаний, и чего-то светлого ждешь, а его все нет, – продолжается.
Очень удобно всяким субчикам не замечать нас, делать вид, что нас вроде и нет на горизонте, хотя мы есть и, знаю, еще увидим свет при жизни, а уж в другой, пожалуй, жизни и водой не разольешь, тогда и наверстаем упущенное, потому что нечего бояться, и придется жить, и здесь, и там.
То-то некоторые премудрые иностранные слависты и грамотные сограждане удивляются: что же это, мол, ни про тебя, Володя, ни про Величанского никто и не пишет, не говорит, не упоминает нигде (имеются в виду Айги, Рейн и прочие эгоисты, выезжавшие в западные страны).
А я спокойно отвечаю:
– Мало ли как бывает, мало ли кому нынче утвердиться надо любой ценой, – а что касается нас, то Саше я, слава богу, цену знаю – и уверен, что и он обо мне помнит всегда.
Качают иностранцы и сограждане головами, чудно им все это, привыкли они в основном на бумаге читать, кто есть кто и какие имеет заслуги перед русской словесностью.
Вон Айги, все базу подводит под собственное творчество (а существует ли он в стихии русской речи? простой вопрос!), парижское издание: треть объема – трактаты и толкования о нем, чувашская книжонка – шестнадцать стихотворений и куча цитат, какой он великий.
Когда Рейну нужна была книга, и я помог ему с изданием, то поначалу, покуда все решалось, я у него в Ангелах ходил, когда же рукопись поставили в план – то вдруг оказалось, что, когда ни позвони ему, он все занят и занят, и не до встреч ему, не до разговоров, то есть не до меня, поскольку дело-то сделано, и книга выйдет с гарантией, и зачем я ему теперь, он вполне без меня обойдется; ну, ему и было высказано, соответственно, не больно пусть губы-то раскатывает.
Кстати, покойный Губанов, человек действительно талантливый (я вчитался в его тексты), с невероятным вниманием – из всех, им читанных, писаний современников – читал и даже внимательно, сознательно изучал (он мог это делать, поверь, не такой уж он был спонтанно-завихренный, как некоторые считают) только мои и твои стихи, по-школьному, что ли, ревностно, по-мальчишески немного, и потом сам всегда кидался в бой, то есть писал свое, доказывал, что и он не промах. Было, было. Как жаль его. Вот перечитывал здесь мюнхенское его собрание стихов, перечитывал, потому что это все мне было знакомо, и видел, какой он был трагический человек, и знаешь, что я подумал? Боже мой, сколько буйного нетерпенья, а надо бы, хоть немного, терпенья. Смирение тоже оружие, когда сам христианин, когда стихи духовны. У Лени, несмотря на постоянное упоминание Храма и Бога, преобладало языческое, стихийное, младенчески-школьно-изумленно-пугающе-втягивающее какое-то, не могу выразить, начало. Но вообще даже я не читал еще полностью оставленного им свода, и ко всему следует подойти серьезно.
По-настоящему серьезный поэт – Николай Шатров, многое из его архива сейчас у меня, и я приведу это в порядок, ты еще почитаешь и, думаю, оценишь. Хотя был он и старше тебя и меня (1929–1977) – увы, вместо всего-то одной даты, рождения, приходится теперь указывать и вторую, грустную, дату, – но я принимаю его к нам двоим, есть причины. Какой поэт!
Скажу, положа руку на сердце, да и просто, без всяких жестов, что, как бы там ни складывались в былые годы судьбы и биографии, чего бы там ни пришлось выдержать, вытерпеть, пройти, перебороть, сколько бы ни было позади, на пути, утрат и обретений, что бы там еще ни предстояло преодолеть впереди, один Бог это знает, но кое-что действительно толковое, стоящее, и даже не кое-что, а немало, да, немало, и это так, все-таки у нас в отечестве, за тридцать прошедших лет, написано, и это и есть литература, и ты, полагаю, тотчас же согласишься со мной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: