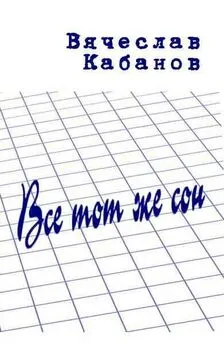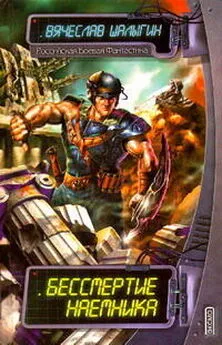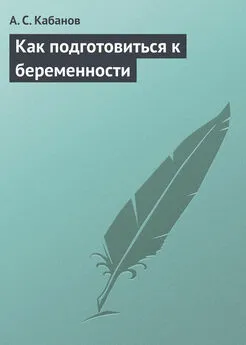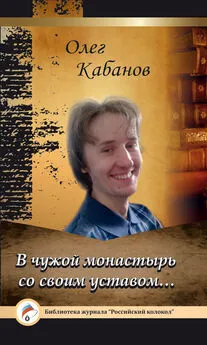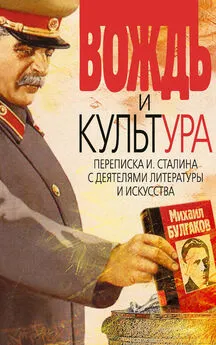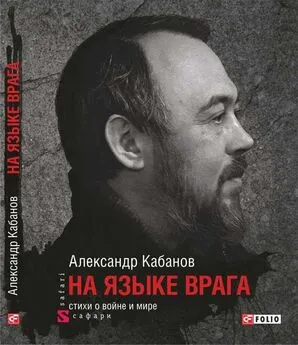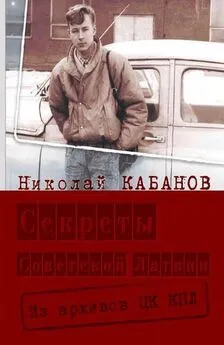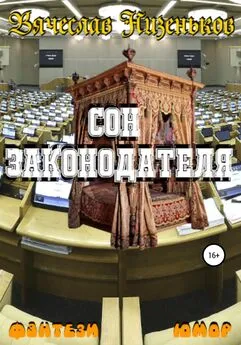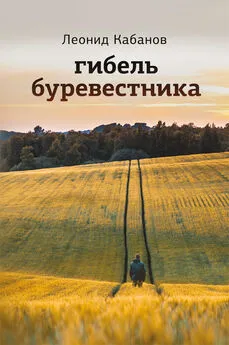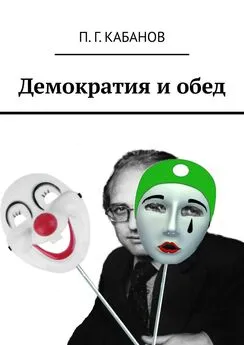Вячеслав Кабанов - Всё тот же сон
- Название:Всё тот же сон
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Кабанов - Всё тот же сон краткое содержание
Книга воспоминаний.
«Разрешите представиться — Вячеслав Кабанов.
Я — главный редактор Советского Союза. В отличие от тьмы сегодняшних издателей, титулованных этим и еще более высокими званиями, меня в главные редакторы произвела Коллегия Госкомиздата СССР. Но это я шучу. Тем более, что моего издательства, некогда громкославного, давно уже нет.
Я прожил немалую жизнь. Сверстники мои понемногу уходят в ту страну, где тишь и благодать. Не увидел двухтысячного года мой сосед по школьной парте Юра Коваль. Не стало пятерых моих однокурсников, они были младше меня. Значит, время собирать пожитки. Что же от нас остается? Коваль, конечно, знал, что он для нас оставляет… А мы, смертные? В лучшем случае оставляем детей и внуков. Но много ли будут знать они про нас? И что мне делать со своей памятью? Она исчезнет, как и я. И я написал про себя книгу, и знаю теперь, что останется от меня…
Не человечеству, конечно, а только близким людям, которых я знал и любил.
Я оставляю им старую Москву и старый Геленджик, я оставляю военное детство и послевоенное кино, море и горы, я оставляю им всем мою маму, деда, прадеда и любимых друзей — спутников моей невыдающейся жизни».
Всё тот же сон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Кстати, как после выяснилось, из предисловия к сборнику Платонова, откуда я впервые узнал имя Ф. Сучкова, был выброшен один абзац. Об этом Федот Федотович рассказал в 1968 году на знаменитом вечере, посвящённом Андрею Платонову, а я узнал о том в 91-м. Сучков тогда, на вечере, сказал:
Из предисловия, написанного мной для избранных произведений Платонова, не по моей вине, опущен абзац, который считаю долгом восстановить на этом представительном вечере. В этом абзаце говорилось, как однажды к Платонову пришёл Лев Гумилевский и увидел его улыбающимся, с толстой рукописью в руках.
— В чём дело? — спросил Лев Иванович.
— Да вот, — ответил Платонов, — прочитал роман о коллективизации. Ещё бы чуть-чуть похуже — и можно печатать.
Ах, как мне жаль, что ни разу, воротясь от Федота Федотовича домой, не пришло мне в голову хоть что-то записать, о чём мы говорили. Тут многое, так многое утрачено! Одно могу сказать, что беседы наши всегда были очень спокойные, никуда не рвущиеся, и Ф.Ф. всегда хорошо и внимательно слушал. То ли я чего забыл, а то ли просто мне уже не досталось федотовских эскапад, какие случались, видимо, раньше, лет за десять, когда мастерская была ещё на Селезнёвке и жив был Домбровский… Об этом чудно написал Михаил Тихонович Емцев:
Тогда я не мог понять, да и сейчас не понимаю, по какой такой надобности у нашего Федота Федотовича Сучкова возник лютый интерес к диадохам — последышам Александра Великого. «Ты посмотри, что эта сука Птолемей вытворяет!» — возмущённо говорил Федот, а ясный взгляд требовал немедленного и категорического соучастия в осуждении птолемеевских злодейств, словно знаменитый фараон в этот момент дул разливное пиво за стенкой федотовой мастерской после парилки Селезнёвских бань, а не был извлечён со страниц толстенного исторического фолианта.
В 72-м или 73-м году «в одной аудитории» Федот Федотыч сказал, что тюремные и лагерные сроки, предусмотренные нашим законодательством за то или иное преступление, неразумны и, следовательно, зловредны. «Они, — сказал Сучков, — не вяжутся с данными человека, с его психологией и физическими возможностями. Для искупления вины, для понимания того, что преступление непростительно, достаточно одного года, двух или трёх лет пребывания под стражей. А если человека приговаривают к заключению на пять, семь или десять лет, можно быть уверенным, что у этого заключённого начнётся изменение психики и, стало быть, неизбежна нравственная деградация. Процесс исправления… непременно перерастёт в процесс ожесточения…»
Тогда на сказанное Сучковым никто не обратил внимания, а иные, как ему показалось, даже, возможно, подумали: «какую, мол, чепуху несёт лысая голова, ибо, чем срок длительней, тем неповаднее…»
На слова Федота Сучкова и до сей поры не обратил никто внимания, и никто, кажется, сам не додумался до простой его мысли. А ведь тут названа главная, корневая порочность насквозь прогнившей нашей (и не только нашей) пенитенциарной системы.
Про «одну аудиторию» семидесятых Федот Федотыч вспомнил в году восемьдесят седьмом или восемьдесят восьмом, когда писал статью «Показания Шаламова», и дал в этой статье хороший пример, подтверждающий безусловную верность мысли, высказанной им «в одной аудитории»:
А совсем недавно близкая Шаламову женщина рассказала мне, как Варлам Тихонович среагировал на её восхищение им, его духом, его горением после не годичного, не трёхлетнего, а семнадцатилетнего пребывания на колымских золотых россыпях… Шаламов сказал: как ты можешь мной восхищаться? Я же совсем не то, за что ты меня принимаешь! Я же состою из осколков, в которые раздробила меня Колымская лагерная республика…
Жаль, никто тогда ещё не знал «записных книжек» Венички Ерофеева и запечатлённого там государственного его проекта:
Высшей мерой наказания в государстве должно быть, например, такое: за обедом лишить человека положенного ему куска дыни или порцию бланманже уменьшить.
Вот бы Федот Федотыч от души повеселился!
Что ни пиши, что ни вспоминай, не полон будет Федот Сучков, но и непозволительно не полон, если не упомяну, что моя Ирка с ним сдружилась и, как только выпадала минутка, всегда забегала к нему отогреться и душу освежить в беседе.
А что касается «Мини-истории», то рукопись так у меня и оставалась. Хранил я её дома. Носил в издательство. Пытался всё же соблазнить дирекцию на её издание. Но «Бутылка в море» туго продавалась, поэтому мои корыстные, но нерасчётливые коллеги о Сучкове уже и слышать не хотели. В 1997 году в новой серии «Русский Парнас» подготовил я издание Козьмы Пруткова, где в именной указатель (он у меня назывался «Указатель достославных имён») поместил несколько миниатюр Сучкова из неизданной «Мини-истории» — о Державине, Гнедиче, Хераскове. И о самом Сучкове тоже написал: «В течение пятидесяти лет он был профессиональным писателем, а первая и единственная скромная книжечка его вышла в 1991 году в издательстве „Книжная палата“. Незадолго до смерти».
Потом в издательстве были переезды, ремонты, варварские эвакуации архива… И дома были перестройки. И не знаю, как это случилось. И где случилась пропажа? Искал я, искал, а — нету «Мини-истории». Пропала книга, как сказал бы Некрасов. Кое-что из наследия Сучкова, переданного мне Федот Федотычем «на будущее, на случай» — на месте. А «Мини-истории» так и нету. Дома у себя я уже не ищу. А издательства и самого теперь нету. И не знаю, что хуже: безвозвратная пропажа рукописи или то, что попала она в нечистые руки?
Вот несколько из того, что у меня осталось. Извлечения, к примеру, из записных книжек Федот Федотыча:
Слепить, изваять, вырубить в материале — не значит ли это: вытащить изображаемого из смерти?
Как только появилась эстетика классицизма, так он, классицизм, и скопытился.
— Вы готовите повесть для ЦеКа или для читателя?
— Для тех и других. У нас морально-политическое единство.
Я не помню периода в жизни России, который не назывался бы переходным.
Если бы с Властью можно было разговаривать, как с живым человеком, я бы сказал ей: «Когда художник захлёбывается от дифирамбов в твой адрес, будьте бдительны, мадам!»
Это было не головокружение от успехов, а опьянение от возможности миловать и наказывать по своему усмотрению.
Когда я был подконвойным, мы всё поглядывали, помнится, с надеждой на опускающееся к горизонту солнышко. Проклятый труд вот-вот кончится, и нас поведут в зону.
А в прошлом, более прошлом, чем лагерь, отчим с тоскою следил за опускающимся светилом: не успеем, мол, справиться с копнением, за ночь сухая трава отсыреет, и может пойти дождик.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: