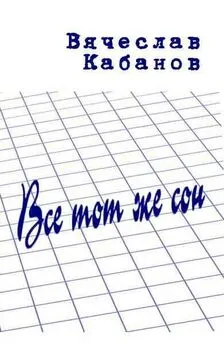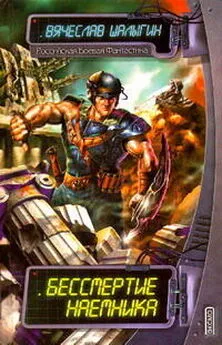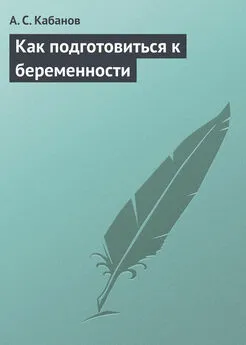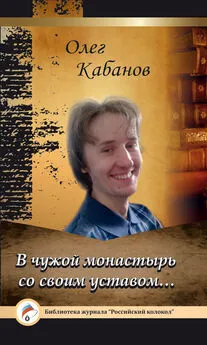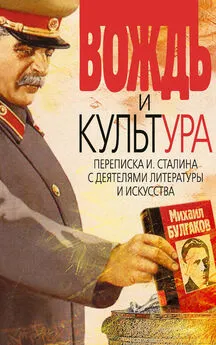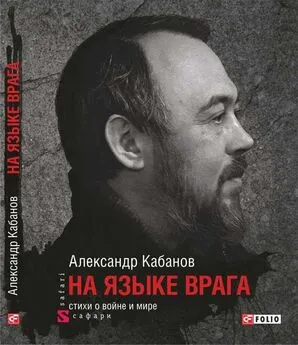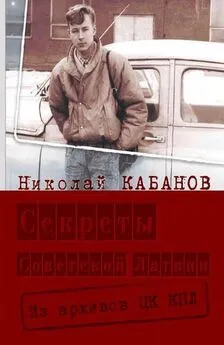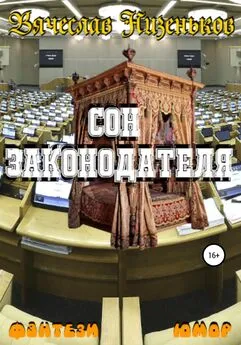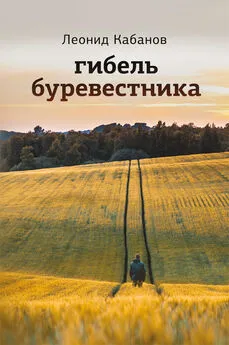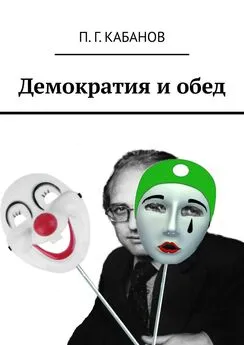Вячеслав Кабанов - Всё тот же сон
- Название:Всё тот же сон
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Кабанов - Всё тот же сон краткое содержание
Книга воспоминаний.
«Разрешите представиться — Вячеслав Кабанов.
Я — главный редактор Советского Союза. В отличие от тьмы сегодняшних издателей, титулованных этим и еще более высокими званиями, меня в главные редакторы произвела Коллегия Госкомиздата СССР. Но это я шучу. Тем более, что моего издательства, некогда громкославного, давно уже нет.
Я прожил немалую жизнь. Сверстники мои понемногу уходят в ту страну, где тишь и благодать. Не увидел двухтысячного года мой сосед по школьной парте Юра Коваль. Не стало пятерых моих однокурсников, они были младше меня. Значит, время собирать пожитки. Что же от нас остается? Коваль, конечно, знал, что он для нас оставляет… А мы, смертные? В лучшем случае оставляем детей и внуков. Но много ли будут знать они про нас? И что мне делать со своей памятью? Она исчезнет, как и я. И я написал про себя книгу, и знаю теперь, что останется от меня…
Не человечеству, конечно, а только близким людям, которых я знал и любил.
Я оставляю им старую Москву и старый Геленджик, я оставляю военное детство и послевоенное кино, море и горы, я оставляю им всем мою маму, деда, прадеда и любимых друзей — спутников моей невыдающейся жизни».
Всё тот же сон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот Никифоров рассказал, как теперь уже горцы попытались отбить у батальона скот и лошадей, но неудачно.
Тотчас через лазутчиков узнали, из какого селения была шайка. Через несколько дней баталион при двух орудиях был направлен туда. Подошли мы ранним утром; на возвышенности поставили орудия и после нескольких гранат зажгли аул. В нём никого не оказалось. Кроме кур и разной рухляди, ничего не было: наверное, жители предупреждены были нашими же лазутчиками. Мы сожгли все хаты, уничтожили огороды, посевы и к обеду вернулись домой.
Такая простая безмятежная картинка. Но что-то давно знакомое она навеяла.
Отряд пошел дальше вслед за горцами, и на склоне второй балки открылся аул.
Бутлер со своей ротой бегом, вслед за казаками, вошел в аул. Жителей никого не было. Солдатам было велено жечь хлеб, сено и самые сакли. По всему аулу стелился едкий дым, и в дыму этом шныряли солдаты, вытаскивая из саклей, что находили, главное же — ловили и стреляли кур, которых не могли увести горцы. Офицеры сели подальше от дыма и позавтракали и выпили.
Это — «Хаджи-Мурат» Льва Толстого. Интересно, что среди восьмидесяти двух газетных, журнальных, книжных и рукописных источников, на которые опирался Толстой, сочиняя «Хаджи-Мурата», воспоминаний Никифорова нет. Как нет и вообще «Русского Вестника». Однако, как видим, совпадения обстоятельств набега удивительны.
Молодой Никифоров тоже, видимо, хорошо пообедал после набега, потому что, как и молодой Бутлер, чтобы удержать своё поэтическое представление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненых. Он до конца своих дней сохранил о молодом времени хорошие воспоминания. И всё бы было хорошо, да только Лев Толстой всё испортил: рассказал про то, что было в ауле, когда ушли, сделав дело, солдаты, то есть священная рука человеколюбивого правителя уже отверзла врата благоденствия .
Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был, проткнут штыком в спину… Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все улья с пчелами…
Фонтан был загажен, очевидно, нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.
Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми…
И ничего тут не возразишь. А новые и новые времена приносят новые и новые вопросы.
Году в семидесятом недавно прошедшего века, в очередной колхозной командировке, собирали мы, служители научно-технической информации, в капустном поле кочаны, закидывали их в кузов медленно ползущего грузовика. Такое неспешное занятие располагает к разговорам. Шёл никчемушный трёп да разные словесные подначки. Но постепенно выделился монолог.
На соседней борозде другая бригада, из другого учреждения, занималась тем же. Человек, ничем не приметный, разве что старше других, сначала изредка нагибаясь за кочаном, а после и вовсе нагибаться перестав, рассказывал. И я переместился поближе. Он рассказывал, как ловко провели они операцию ! Как тёмным утром, зимой, на стыке сорок третьего и сорок четвёртого годов, оцепили они горное селение и всего-то за два часа, дав по десять минут на сборы, сначала мужчин, а потом детишек и женщин погрузили в крытые ленд-лизовские студебеккеры и, довезя до ближайшей железной дороги, где товарняк ожидал контингент из многих селений, отправили эшелон куда-то в сторону Казахстана и Киргизии.
… Через десять с лишним лет от этой славной операции, когда ус откинул хвост и уже разоблачён был «английский шпион и враг народа» Берия, группа оставшихся в живых спецпоселенцев писала из Киргизии в правительство СССР:
Больных, детей, стариков брали из саклей, варварски бросали в машины и везли к фронту погрузки, запирали в холодные вагоны в морозные дни. Умерших по пути следования на ходу поезда выкидывали на снег на пищу воронам. Прибыв в Казахстан и Киргизию, нас поместили под открытым небом, в скотских дворах и свинарниках. Одни умирали, протягивая руку за куском хлеба, другие умирали от холода, а третьи — от вспыхнувшей эпидемии тифа…
Рассказ о проведённой операции я слушал тогда на капустном поле впервые. Другие слушали без особого интереса или вовсе не слушали, а я всё постичь не мог: как может нормальный человек рассказывать об этом — легко и хвастливо? Поскольку же медицинская нормальность рассказчика сомнений не вызывала, оставался вопрос: человек ли?
Через десять лет после описанных Никифоровым и Толстым событий окончилась та Кавказская война, и в Причерноморье разрешился черкесский вопрос. Кое-что об этом расскажет ещё один очевидец.
Очевидец Лев Тихомиров
В отличие от ветерана Никифорова Лев Александрович Тихомиров есть лицо известное, и о нём можно только напомнить. Что был он, к примеру, членом петербургского народнического кружка «чайковцев», затем состоял в «Земле и воле» и членом Исполнительного комитета «Народной воли», а после 1 марта 1881 года ушёл в Европу. К этому времени у тридцатилетнего бунтаря зародились «сомнения относительно целесообразности революционной деятельности», и он постепенно «отошёл от терроризма к конституционализму».
Так бывает, что когда зародятся сомнения, появляются сразу и факты или обнаруживаются некоторые характеристические детали, сомнения подогревающие.
Николай Иванович Жуковский, тоже эмигрант, но более ранний, ещё сотрудничавший с Герценым по изданию и транспортировке «Колокола», рассказал Тихомирову, как молодой Нечаев, успевший, правда, к тому времени убить студента Иванова и сбежать за границу, явился к Герцену (Александр Иванович жил тогда в Париже), дабы содрать с него денег.
Нечаев так рассудил, что для успеха предприятия лучше было бы явиться к барину в обличье мужика, оттого и сделал свой визит в армяке и смазных сапогах. Но главное не в армяке (это был лишь сценический выход), главное — как он у Герцена в доме сморкался:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: