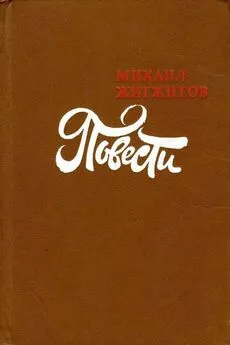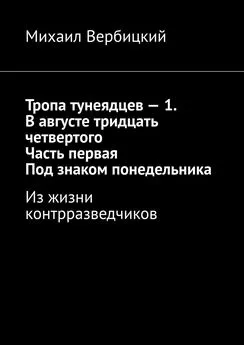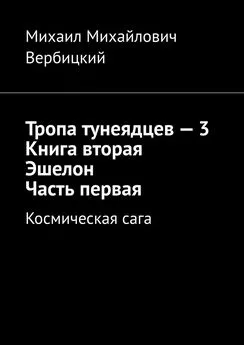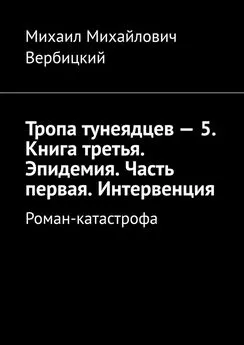Михаил Громов - Тропа к Чехову
- Название:Тропа к Чехову
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Детская литература»4a2b9ca9-b0d8-11e3-b4aa-0025905a0812
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-08-004111-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Громов - Тропа к Чехову краткое содержание
Биография великого русского писателя, основанная на серьезном анализе его творчества и дополненная архивными фотографиями, воспоминаниями близких и современников, открывает новые грани жизненной и писательской судьбы А. П. Чехова.
Тропа к Чехову - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Мамаша, а что, монахи кальсоны носят?
– Ну, опять! Антоша вечно такое скажет!.. – Она говорила мягким, приятным, низким голосом, очень тихо.
И вся она была тихая, мягкая, необыкновенно приятная.
Сестра, Марья Павловна, была единственная, это уже одно ставило ее в привилегированное положение в семье. Но ее глубочайшая преданность именно Антону Павловичу бросалась в глаза с первой же встречи. И чем дальше, тем сильнее. В конце концов она вела весь дом и всю жизнь свою посвятила ему и матери. А после смерти Антона Павловича она была занята только заботой о сохранении памяти о нем, берегла дом со всей обстановкой и реликвиями, издавала его письма и т. д. (А. П. Чехов в воспоминаниях современников. 1986. С. 282–283).
Г. И. Россолимо
1879 год для медицинского факультета Московского университета ознаменовался большим наплывом молодежи, в том числе и из самых отдаленных уголков России; на первый курс поступило около 450 студентов… трое из таганрогской гимназии, среди последних был и А. П. Чехов. Не помню, встречался ли я с ним в первое время, но позднее, благодаря знакомству моему через студента-юриста X. М. Кладас с другом и товарищем А. П., тоже медиком, Василием Ивановичем Зембулатовым, я обратил внимание на будущего писателя. Особенных поводов к сближению с ним у меня вначале не было, вероятно, потому, что, попав на крайне многолюдный курс, мы все, юнцы, держались больше общества своих земляков; так было со мной, так же было и с А. П., который, однако, как мне стало известно от Зембулатова, вскоре примкнул к группе художников и литераторов.
Несмотря на рано обнаружившийся у него уклон в сторону писательства, он тем не менее оставался прилежным студентом, хотя и довольно пассивным по отношению к увлечению общественной работой или медицинской специальностью. Он аккуратно посещал лекции и практические занятия, нигде, однако, не выдвигаясь вперед. Если бывал на сходках, то скорее в качестве зрителя, и на втором курсе, в 1880/81 академическом году, в бурные времена, предшествовавшие и последовавшие за событием 1 марта 1881 года (убийством Александра II), он оставался в рядах большинства студентов курса, не индифферентных, хотя и не активных революционеров. В прорывавшемся иногда вихре, выдвинувшем на вершину волны Омарева, Стыранкевича, П. П. Кащенко и других, остальные тысячи студентов нашего университета слились в бушевавшую массу, и потому, вероятно, менее активные студенты не оставили следов своего личного отношения к историческим событиям той знаменательной эпохи. Этим я и объясняю то, что у меня выпал из памяти образ А. П. за этот период времени. Позднее, когда студенческая жизнь вошла более или менее в свою колею, его было видно и в аудиториях и лабораториях; и экзамены он сдавал добросовестно, переходя аккуратно с курса на курс. О его отношениях к занятиям и студенческим обязанностям свидетельствует образцово составленная на V курсе кураторская (обязательная зачетная) история болезни пациента нервной клиники, оригинал которой находился до настоящего времени в архиве заведуемой мною клиники нервных болезней 1-го Московского университета и передан мной, согласно ходатайству Музея им. Чехова и с разрешения правления университета, этому музею. Как сказано выше, представление о Чехове-студенте у меня составилось частью из данных наблюдений со стороны и личных встреч – особенно во время занятий с товарищами в порученной мне, как старосте V курса, студенческой лаборатории, – частью же из того, что о нем сообщал словоохотливый и прямодушный, наш милый товарищ Вася Зембулатов, которого Чехов часто звал по гимназическому обычаю Макаром, и другой товарищ по Таганрогу Савельев. Оба товарища А. П. относились к нему как к самому лучшему другу детства; их соединяли не только узы гимназической скамьи, но и донское происхождение, и весь, хотя и неглубокий, но обычно интимный круг интересов гимназических одноклассников. Но в то же время было ясно, что спайка трех товарищей произошла и благодаря, с одной стороны, чуткости, чуткости будущего крупного сердцеведа, с другой – художественной спаянности взаимно друг друга дополнявших индивидуальностей – толстенького, маленького, с ротиком сердечком, маленькими усиками и жидкой эспаньолкой, с подпрыгивающим животиком во время добродушного смеха, степняка-хуторянина Васи Зембулатова и поджарого, высокого, доброго, благородного, по-детски мечтательно-удивленного, молчаливого казака Савельева. У Чехова, уже студентом ушедшего в круг широких литературных интересов и уже вырисовывавшегося как яркая творческая индивидуальность, казалось, ничего не должно было оставаться общего с этими милыми детьми южных степей. А между тем тесная дружба с гимназическими товарищами оставалась неизменно прочной до последних дней каждого, уходившего по очереди с этого света; и это можно было понять, так как А. П., хотя и отдалившись в силу своего исключительного творческого таланта от будничного, земного, тем не менее оставался до конца своей жизни сыном родившей и вскормившей окружавшей его природы и среды (А. П. Чехов в воспоминаниях современников. 1986. С. 428–430).
К. А. Коровин
Он был красавец. У него было большое открытое лицо с добрыми смеющимися глазами. Беседуя с кем-либо, он иногда пристально вглядывался в говорящего, но тотчас же вслед опускал голову и улыбался какой-то особенной, кроткой улыбкой. Вся его фигура, открытое лицо, широкая грудь внушали особенное к нему доверие, – от него как бы исходили флюиды сердечности и защиты… Несмотря на его молодость, даже юность, в нем уже тогда чувствовался какой-то добрый дед, к которому хотелось прийти и спросить о правде, спросить о горе и поверить ему что-то самое важное, что есть у каждого глубоко на дне души. Антон Павлович был прост и естественен, он ничего из себя не делал, в нем не было ни тени рисовки или любования самим собою. Прирожденная скромность, особая мера, даже застенчивость – всегда были в Антоне Павловиче (А. П. Чехов в воспоминаниях современников. 1986. С. 27).
В. Г. Короленко
Передо мною был молодой и еще более моложавый на вид человек, несколько выше среднего роста, с продолговатым, правильным и чистым лицом, не утратившим еще характерных юношеских очертаний. В этом лице было что-то своеобразное, что я не мог определить сразу и что впоследствии, по-моему очень метко, определила моя жена, тоже познакомившаяся с Чеховым. По ее мнению, в лице Чехова, несмотря на его несомненную интеллигентность, была какая-то складка, напоминавшая простодушного деревенского парня. И это было особенно привлекательно. Даже глаза Чехова, голубые, лучистые и глубокие, светились одновременно мыслью и какой-то, почти детской, непосредственностью. Простота всех движений, приемов и речи была господствующей чертой во всей его фигуре, как и в его писаниях. Вообще, в это первое свидание Чехов произвел на меня впечатление человека глубоко жизнерадостного. Казалось, из глаз его струится неисчерпаемый источник остроумия и непосредственного веселья, которым были переполнены его рассказы. И вместе угадывалось что-то более глубокое, чему еще предстоит развернуться, и развернуться в хорошую сторону. Общее впечатление было цельное и обаятельное, несмотря на то что я сочувствовал далеко не всему, что было написано Чеховым. Но даже и его тогдашняя «свобода от партий», казалось мне, имела свою хорошую сторону. Русская жизнь закончила с грехом пополам один из своих коротких циклов, по обыкновению не разрешившийся во что-нибудь реальное, и в воздухе чувствовалась необходимость некоторого «пересмотра», чтобы пуститься в путь дальнейшей борьбы и дальнейших исканий. И поэтому самая свобода Чехова от партий данной минуты, при наличности большого таланта и большой искренности, казалась мне тогда некоторым преимуществом. Все равно, думал я, это ненадолго… Среди его рассказов был один (кажется, озаглавленный «По пути»): где-то на почтовой станции встречаются неудовлетворенная молодая женщина и скитающийся по свету, тоже неудовлетворенный, сильно избитый жизнью русский «искатель» лучшего. Тип был только намечен, но он изумительно напомнил мне одного из значительных людей, с которым сталкивала меня судьба. И я был поражен, как этот беззаботный молодой писатель сумел мимоходом, без опыта, какой-то отгадкой непосредственного таланта так верно и так метко затронуть самые интимные струны этого все еще не умершего у нас, долговечного рудинского типа… И мне Чехов казался молодым дубком, пускающим ростки в разные стороны, еще коряво и порой как-то бесформенно, но в котором уже угадывается крепость и цельная красота будущего могучего роста (А. П. Чехов в воспоминаниях современников. 1986. С. 36–37).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: