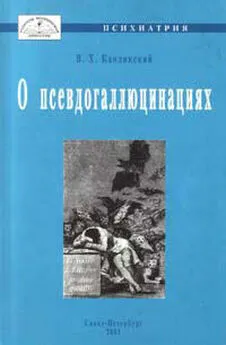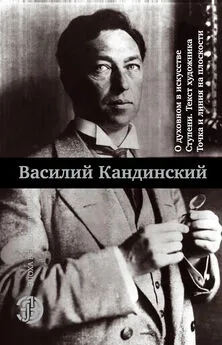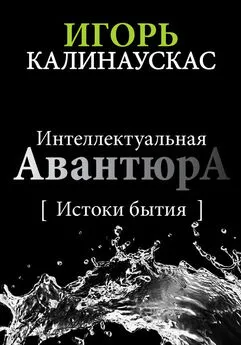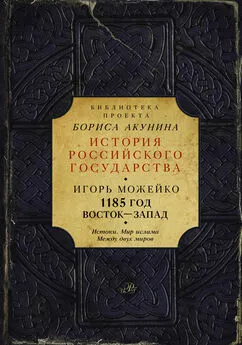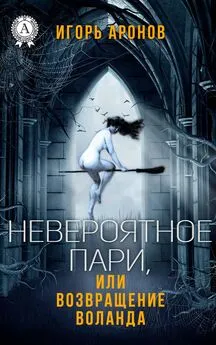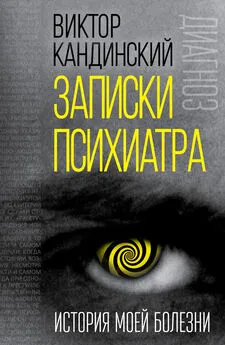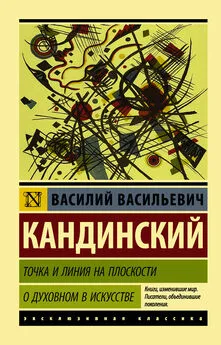Игорь Аронов - Кандинский. Истоки. 1866-1907
- Название:Кандинский. Истоки. 1866-1907
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Гешарим»862f82a0-cd14-11e2-b841-002590591ed2
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-93273-318-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Аронов - Кандинский. Истоки. 1866-1907 краткое содержание
Книга И. Аронова посвящена до сих пор малоизученному раннему периоду жизни творчества Василия Кандинского (1866–1944). В течение этого периода, верхней границей которого является 1907 г., художник, переработав многие явления русской и западноевропейской культур, сформировал собственный мифотворческий символизм. Жажда духовного привела его к великому перевороту в искусстве – созданию абстрактной живописи. Опираясь на многие архивные материалы, частью еще не опубликованные, и на комплексное изучение историко-культурных и социальных реалий того времени, автор ставит своей целью приблизиться, насколько возможно избегая субъективного или тенденциозного толкования, к пониманию скрытых смыслов образов мастера.
Игорь Аронов, окончивший Петербургскую Академию художеств и защитивший докторскую диссертацию в Еврейском университете в Иерусалиме, преподает в Академии искусств Бецалель в Иерусалиме и в Тель-Авивском университете. Его научные интересы сосредоточены на исследовании русского авангарда.
Кандинский. Истоки. 1866-1907 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Кандинский использовал в Невесте символику народных обрядов и обычаев для формирования собственных символов. Две сросшиеся березы – неоднократно повторяющийся в его работах мотив – символизируют пару в любви. Незаконченный венок девушки указывает на разлуку с суженым. Пень рядом с ней – пустующее место для него. Как и в случае с «царевной» в Зеленой птице ( ил. 46 ), «русский рыцарь» ( ил. 15 ) – отсутствующий суженый героини Невесты [166].
Ксилография В замковом саду (конец 1903; ил. 48 ) разрабатывает иконографический мотив Встречи ( ил. 12 ) [167]. Фигуры юноши и девушки в гравюре слиты вместе. Но она отворачивает от юноши лицо с закрытыми глазами. Он же всматривается в маленький цветок в своей левой руке, держа в другой руке венок. По народному обычаю юноша в знак верности надевал на голову венок, сплетенный суженой. Венок в руке героя в гравюре означает нарушение им обета верности. Скрытый смысл маленького цветка в его левой руке проясняется из письма Кандинского Габриэле, посланного в октябре 1903 г. Он писал: «Ты маленькая, любимая, любимая, любимая! Доброй ночи». Рядом он нарисовал маленький цветок, поставил восклицательный знак, и добавил: «Да? (Так ли выглядит этот маленький цветок; что это значит?) Моя любимейшая Эльхен, я целую тебя сердечно и много раз» [168]. Такова внутренняя мотивация превращения прогулки по саду в гравюре в сцену прощания. Метафорически цветок любви разлучает героя с печальной спутницей, ведя его по дороге к средневековому замку, похожему на замок в гуаши Ночь ( ил. 22 ).
Гуашь Однажды (начало 1904; ил. 49 ) изображает сон Кандинского о «земном рае». Девушка в аристократическом остроконечном хеннине с длинной вуалью напоминает даму в Старом городке ( ил. 33 ). Она сидит на зеленом берегу реки и плетет венок из синих цветов, не замечая, что рыцарь уже близко. Этот сюжет продолжается в гуаши Юная пара (начало 1904; ил. 50 ). Здесь рыцарь в голубых латах ведет девушку в светло-зеленом платье к венчанию. По Бергеру, голубой цвет символизирует надежду и верность, а зеленый выражает покой, свежесть, согласие. Соединение голубого и зеленого означает триумф красоты в природе [Berger 1898: 109, 297]. Место, изображенное в Юной паре , как и в Старом городке ( ил. 33 ), отражает впечатления Кандинского от Калльмюнца, где в августе 1903 г. он обручился с Габриэлой. В 1904 г. Кандинский был на пороге своей новой жизни с ней, что и определило тему Юной пары . Рыцарь поворачивается к невесте, делая приглашающий жест правой рукой. Она склоняет голову к нему, соглашаясь следовать за ним. Юная пара , как и Однажды , показывает переходное состояние еще не реализованного счастья. В Однажды герои еще не встретились; в Юной паре они еще не обвенчались. В декабре 1903 г. Кандинский писал Габриэле о своем плане совместного путешествия в Париж, мечтая о жизни с ней, полной гармонии в любви и работе. Он называл ее «моя невеста», но заявлял, что сделает ее своей женой, только если будет убежден, что в противном случае она будет несчастна [169].
Габриэла была прототипом прекрасной дамы из эпохи западного Средневековья. С Анной связан образ сказочной русской царевны. Но действительность была для Кандинского лишь отправной точкой для воплощения духовной реальности в символах. Прекрасная дама отражает его представление о рыцарском идеале в западной культуре. Царевна – русский идеал, «русская душа» в понимании Кандинского. Оба образа уходят своими корнями в двойственное русско-германское культурное наследие Кандинского. Элегантный стиль гуашей Однажды и Юная пара напоминает миниатюры братьев Лимбург (Frères de Limbourg) из «Великолепного Часослова герцога Беррийского» («Très Riches Heures du Duc de Berry»; 1410-е гг.; Musée Condé, Chantilly). Создание русского идеала подпитывалось восприятием Кандинским русской народной культуры.
В Невесте художник усилил свободное движение кисти и ритм мозаичных мазков и пятен. Этот стиль он продолжил разрабатывать в многофигурных композициях на русскую тему.
Древняя Русь
В гуаши Древнерусское (начало 1904; ил. 51 ) энергичные мозаичные мазки придают образу жизненную интенсивность. Картина повседневной жизни XVI–XVII вв. внешне близка произведениям Андрея Рябушкина и Аполлинария Васнецова, которые поэтизировали Московское царство эпохи его расцвета [170]. В изображении Кандинским картины исторического прошлого отразились и его глубоко личные переживания.
Ребенок на переднем плане Древнерусского находится на границе между реальным пространством зрителя и изображением. Он вводит зрителя в мир прошлого, где перед красными стенами древнего города со множеством церквей и теремов гуляют пары. Мужчина в высокой боярской шапке и с посохом идет рядом с женщиной в белом головном уборе, склонившей голову к ребенку. Как было показано выше, Кандинский ассоциировал своих родителей с образом Москвы. В этом городе он в последний раз видел их вместе, когда ему было пять лет. В прошлом мать разрушила его семью; сейчас он сам готовился покинуть свою жену.
Справа от мальчика стоит береза, «дерево любви», символ русских корней Кандинского. Береза растет у дороги, за которой начинается зеленая поляна, на поляне юноша ловит убегающую девушку – мотив, взятый Кандинским из народных игрищ. Еще одна пара стоит дальше, у реки, в поэтичном осеннем пейзаже с березовой рощей, отражающейся в воде. Поляна – укромное место для влюбленных. Сюда направляется всадник в красном на белом коне, проезжая прямо перед повернувшим к нему голову мальчиком. Если Русский рыцарь ( ил. 15 ) выражал переживания Кандинского в момент прощания с родиной, Древнерусское передает неосуществимое в реальности желание художника вернуться к счастливым моментам детства и юности, соединенным в ностальгическом идеале «потерянного рая». Кандинский впервые объединил ряд внутренне взаимосвязанных настроений в одной композиции.
11 мая 1904 г. Кандинский присоединился к Габриэле в Крефельде (Krefeld), откуда они начали путешествие по Рейнским землям, а затем, с 23 мая, по Голландии. Они были счастливы; вместе писали и рисовали. Голландские пейзажи Кандинского полны солнца [171]. После путешествия 22 июня Габриэла поехала в Бонн. Кандинский вернулся в Мюнхен к жене, от которой все еще скрывал свое намерение покинуть ее. 1 июля 1904 г. Габриэла писала ему:
Мне грустно, что ты в таком плохом настроении. Не будь таким, пожалуйста! И сделай что-нибудь с твоими голландскими впечатлениями! Я жду времени, когда мы будем вместе и сможем работать вместе [172].
«Плохое настроение» Кандинского имело свои причины: он продолжал колебаться, и ему предстоял нелегкий разговор с Анной. Он не мог немедленно начать работать над своими «голландскими впечатлениями», но вернулся к теме Древней Руси. Около июля 1904 г. он завершил картину маслом Воскресенье. Древняя Русь ( ил. 52 ) и только затем приступил к голландским гуашам [Barnett 1992: № 140–142].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: