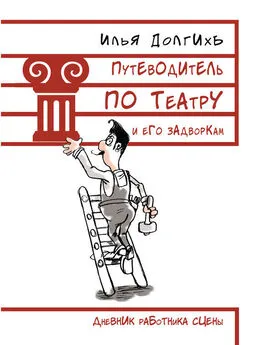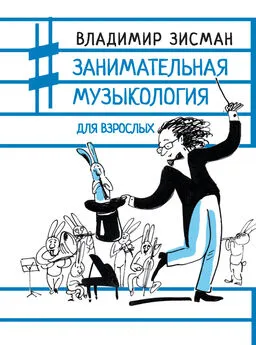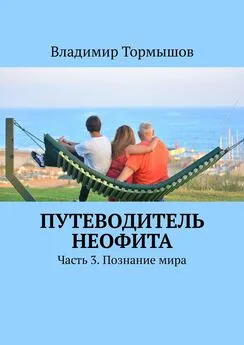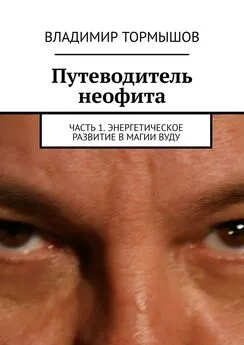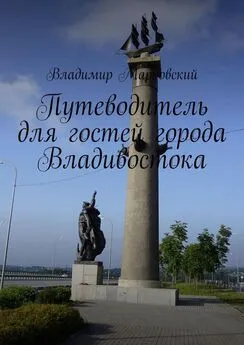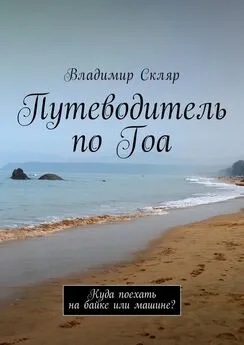Владимир Зисман - Путеводитель по оркестру и его задворкам
- Название:Путеводитель по оркестру и его задворкам
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2014
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Зисман - Путеводитель по оркестру и его задворкам краткое содержание
Эта книга рассказывает про симфонический оркестр и про то, как он устроен, про музыкальные инструменты и людей, которые на них играют. И про тех, кто на них не играет, тоже.
Кстати, пусть вас не обманывает внешне добродушное название книги. Это настоящий триллер. Здесь рассказывается о том, как вытягивают жилы, дергают за хвост, натягивают шкуру на котел и мучают детей. Да и взрослых тоже. Поэтому книга под завязку забита сценами насилия. Что никоим образом не исключает бесед о духовном. А это страшно уже само по себе.
Но самое ужасное — книга абсолютно правдива. Весь жизненный опыт однозначно и бескомпромиссно говорит о том, что чем точнее в книге изображена жизнь, тем эта книга смешнее.
Правду жизни я вам обещаю.
Путеводитель по оркестру и его задворкам - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Исторически (и чисто системно) понятно, что при больших количествах музыкантов — а это может быть и церковный хор, и опера, и инструментальный концерт — какой-то координатор должен быть. Эту роль выполнял солист (часто он являлся и композитором), в опере с учетом значительной роли клавесина — клавишник, а позже скрипач, концертмейстер оркестра. Дальше все пошло по накатанному кибернетикой пути: система усложнилась настолько, что для ее дальнейшего успешного функционирования потребовался специалист, освобожденный от исполнительства. Окончательно это стало понятно в эпоху Бетховена, а дальше понеслось по экспоненте. Эпоха романтизма не обошла своим вниманием такую экзотическую фигуру, как дирижер, тем более что магическое действо артиста, рождающего музыку, которая звучит, повинуясь только пассам этого медиума, вполне органично вписывалось в контекст тогдашнего отношения к художнику как к Творцу. Видимо, сочетание взглядов романтически настроенной публики и реальных потребностей быстро усложняющейся музыки и дало мощный импульс к выделению дирижера из чисто исполнительской сферы в сферу героико-мифологическую. Тем более что если то, чем занимаются исполнители на музыкальных инструментах, относительно понятно, то уразуметь, что делает этот волшебник с палочкой, может не каждый. А иногда и вовсе никто.
Настоящий дирижер — это не просто музыкант-исполнитель. Он, конечно, должен обладать дирижерской техникой, но кроме этого он и педагог, и психолог, и исследователь, и экстрасенс.
Мы с коллегой как-то вспоминали о работе с Евгением Владимировичем Колобовым. «Играли Реквием Моцарта. Представляешь, — говорит, — играю и обнаруживаю, что плачу». Такого просто дирижерским жестом не достичь. Для этого требуется еще какая-то более высокая форма коммуникации. Вот такая «астральная» сущность дирижера и есть мечта оркестрового музыканта.
Дирижер работает с развернутой во времени формой, и собрать в единое целое, к примеру, сорокаминутную симфонию — это уже большой концептуальный подвиг. Притом что реализует он это не лично, а посредством вовлечения в процесс чуть ли не сотни индивидуумов. В общем, он должен уравновесить собой целый оркестр. И в течение нескольких репетиций собрать мощную симфоническую конструкцию.
Дирижер как минимум должен знать, чего он хочет, а как максимум уметь показать это. Про флюиды молчу: они либо есть, либо их нет. Либо не долетают.
Я, конечно, понимаю, что для дирижера появление за пультом в новом для него оркестре — безусловно, стресс. Похожие эмоции, по идее, должен испытывать дрессировщик, входящий в клетку с макаками, — сожрать не сожрут, но помнут основательно. Естественно, он начинает самоутверждаться, обозначая жестом и словом, кто здесь главный. Что, по сути своей, бессмысленно, поскольку музыканты уже с первых минут видят, с кем имеют дело. А кроме того, они по природе своей не агрессивны, и те несколько случаев, когда дирижеров все-таки били, исключительно на совести этих дирижеров. Это подтвердит любой оркестрант. Без малейшего намека на сочувствие.
Хотя в отношении настоящих дирижеров оркестранты в своем уважении доходят до обожания.
Кстати говоря, мировая известность дирижера или, наоборот, отсутствие его среди знаменитостей далеко не всегда отражают реальное положение дел. Иногда дирижер просто в силу каких-то причин, не имеющих отношения к профессии, оказывается не на слуху. В этом плане оперный или балетный дирижер (а там есть своя очень сложная специфика) оказывается в заведомо проигрышном положении по сравнению с симфоническим, который творит чудеса непосредственно на глазах публики (при этом понимание выражения «творит чудеса» у публики и оркестра может быть диаметрально противоположным).
Я оставлю за скобками творческую составляющую дирижерского процесса, потому что, как удачно отметил Н. А. Римский-Корсаков в эпиграфе, это дело темное, и, как оно работает и чем достигается, я не знаю. Точным жестом и улыбкой Рождественского, минималистскими движениями Мравинского или одним взглядом Бернстайна.
Дирижер каким-то загадочным образом должен передать свое понимание творческого замысла композитора не просто оркестру, но через оркестр — слушателю. Если даже подойти к процессу чисто технократически, то видно, что объем обрабатываемой дирижером информации огромен, — с этим вы в первом приближении уже знакомы, прочитав о том, как устроена партитура. И это уже немало. Если в некоторых случаях, как, например, в Радецки-марше И. Штрауса, достаточно запустить процесс и можно спокойно уйти со сцены, вернувшись в самом конце, то, скажем, в опере все значительно сложнее. Я даже не говорю о постоянных изменениях темпов и характера музыки. Там идет процесс сложнейшей координации оркестра, солистов, хора. Постоянное принятие решений нон-стоп: идти ли за солистом, вдруг изменившим темп, и попытаться его догнать всем оркестром или, наоборот, играть как играли, а через несколько секунд властным жестом показать заплывшему Фальстафу, куда втыкать следующую реплику. Попытаться отогнать в сторону героиню, которая перекрывает обзор умирающему тенору, — а как ее отгонишь, если она стоит спиной к дирижеру, а умирающий тенор отползти в сторону уже не может и держит последнюю в жизни, уже неподконтрольную дирижеру фермату. А тут еще и хор мельтешит. И если вдобавок трубы вступят на такт раньше…
В балете, между прочим, тоже непросто. Вы имеете дело с физическими телами, подчиненными законам механики. И как бы балерина ни хотела сплясать, ориентируясь на дирижерский жест, приземлиться раньше, чем это описано законами баллистики, она не в силах. И тут дирижер должен работать на нее. А как рассчитать темп для наматывающей фуэте балерины, чтобы фраза оркестра закончилась точно в конце ее тридцать второго оборота? Или совпасть с гигантскими прыжками танцовщика по сцене? Подождать с последним аккордом, пока принц шваркнет Одетту или Одиллию на пол, еще не так сложно — упала, вот вам и аккорд. Но в процессе танца, когда музыкальный темп определяется численными соотношениями в области потенциала икроножных мышц и сил тяготения и инерции, уверяю вас, очень непросто. Вплоть до таких, казалось бы, неочевидных вещей, как начало номера: ножка балерины пошла — извольте начинать, в воздухе она оркестр уже ждать не сможет.
И, между прочим, вот у кого совсем нет пауз, так это у дирижеров.
Работать с настоящим дирижером — огромное счастье и кайф. Когда перед тобой настоящий профессионал и музыкант — видно сразу и чувствуется сразу. Когда перед тобой Рождественский или Понькин, тебе в принципе не удастся сыграть не то или не там. Когда дирижировал Колобов, ты понимал, что хуже, чем гениально, ты играть не имеешь права, это невозможно. Геннадий Николаевич Рождественский очень точно сформулировал, что задача дирижера — заставить музыканта ХОТЕТЬ играть лучше.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
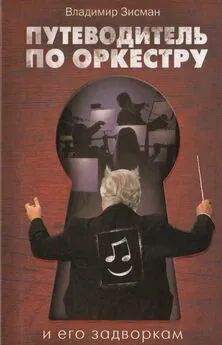

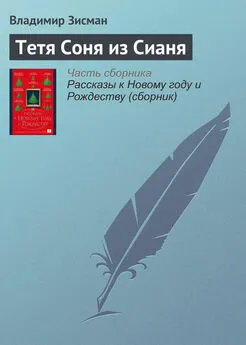
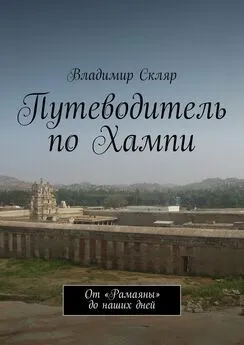
![Владимир Лазарис - Путеводитель по галуту. Еврейский мир в одной книге [litres]](/books/1066584/vladimir-lazaris-putevoditel-po-galutu-evrejskij.webp)