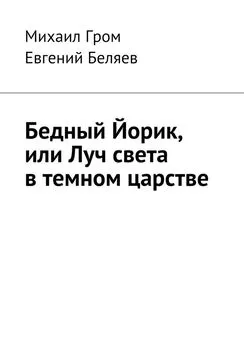Михаил Громов - Чехов
- Название:Чехов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1993
- Город:Москва
- ISBN:ISBN 5-235-01990-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Громов - Чехов краткое содержание
Биография великого русского писателя Антона Павловича Чехова (1860–1904), основанная на серьезном, глубоком анализе творчества и дополненная архивными фотографиями, открывает новые, неожиданные грани жизненной и писательской судьбы, позволяет почувствовать его душевное одиночество: «как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу одиноким».
Широта и разнообразие фактического материала, достоверное изображение эпохи и окружения Чехова, нетрадиционный подход к его биографии, любовь к своему герою — вот что отличает книгу Михаила Петровича Громова. Она рассчитана на самый широкий круг читателей.
Чехов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Время от времени в чеховских пьесах, рассказах и повестях возникают долгие паузы, наступает молчание, и тогда слышно, как кричат ночные совы и перекликаются журавли. Древним символическим языком природа говорит с человеком о наступлении лет и зим, о смене поколений.
На глазах Чехова складывался под влиянием быстро развивавшейся промышленности новый взгляд на природу, а вместе с ним — новая стилистика отражения природы в поэтическом слове. Об уничтожении лесов думал еще Достоевский. При Чехове же, начиная со второй половины 80-х годов, о разорении русской земли писали все чаще и тревожнее, как о событии совершившемся: «…где прошла по широте русской земли безлесая пустынная гладь, там прощай поэзия старины, поэзия наших отцов и дедов, да еще и нашей собственной юности. Наши дети не поймут скоро поэтического выражения «не шуми ты, темный лес, зеленая дубровушка», равно как не поймут и всего неисчерпаемого запаса как мифологической, так и позднейшей поэзии, основанной на таинственной, то возвышающей, то грозной, то прелестной внушительности повсюдных, еще недавно непроходимых лесных чащ. А это будет огромным истощением душевных сокровищ нашего поэтического народа», — писал Константин Леонтьев.
Читались уже и публичные лекции о техническом богатстве и духовной нищете, об «одуряющей скорости» современной жизни. С большими опасениями заглядывали в будущее, правильно угадывая те опасности, с которыми пришлось столкнуться нам, — с загрязнением окружающей среды, экологической катастрофой. Говорили о том, что быстрота современной жизни, ее излишняя подвижность, смешение сословий, наций, обычаев, религий не могут не отражаться крайне вредно и на психическом состоянии человечества; от такого смешения происходит пепрочность и неустойчивость душевной жизни. А к «всемирной теллургически-астрической скорости движения» человек, — говорили уже и тогда, — присоединяет еще свою «самодельную одуряющую скорость движения по железным путям», на крыльях ветра, на парах и электричестве, по морю и под водою, и под землею, на аэростатах, посредством нагретого воздуха, водорода и чего-то там еще… А что электричество будет запряжено, как мощный двигатель-скороход, не подлежало сомнению.
В рассказе «Свирель» старый пастух говорил:
«Пригляделся я, брат, за свой век и так теперь понимаю, что всякая растения на убыль пошла. Рожь ли взять, овощь ли, цветик ли какой, все к одному клонится.
— Зато народ лучше стал, — заметил приказчик.
— Чем это лучше?
— Умней.
— Умней-то умней, это верно, паря, да что с того толку? На кой прах людям ум перед погибелью-то? Пропадать и без всякого ума можно».
Еще до первого путешествия по Европе Чехов много думал о своеобразии русской природы, о долгих суровых зимах, о бескрайних пространствах, порождающих чувство заброшенности и одиночества.
Человек и природа у Чехова — не столько художественная тема, известная в литературе с незапамятных времен, сколько трагическая коллизия современной русской жизни, беда и разорение, заставшие страну врасплох.
«Посмотрите вы на окружающую природу: высунь из воротника нос или ухо — откусит; останься в поле один час — снегом засыплет. А деревня такая же, как еще при Рюрике была, нисколько не изменилась, те же печепеги и половцы. Только и знаем, что горим, голодаем и на все лады с природой воюем» («Жена», 1892). Эти мотивы возобновлялись в драматургии и прозе до поздних лет: «Громадные пространства, длинные зимы, однообразие и скука жизни вселяют сознание беспомощности, положение кажется безнадежным, и ничего не хочется делать, — все бесполезно… Это все равно, что в степи, которой конца не видно, убить одну мышь или одну змею» («В родном углу», 1897).
У Чехова завершалась одна из древнейших и прекраснейших тем мировой литературы — не потому, что он превосходил своих предшественников мерой одаренности, но потому, что был современником необратимых перемен в этом извечном, еще недавно исполненном гармонии единстве: человек и природа.
«Туда бежать от праздности, пустоты и недостатка интересов… На зеленом цветущем берегу, над темной глубью реки или озера, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, на котором колеблются или неподвижно лежат поплавки ваши, — улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды! Природа вступит в вечные права свои…» — это у С. Т. Аксакова.
Природа Пушкина, в особенности Тургенева и даже Льва Толстого в пору «Казаков» была еще бесстрастной, но поэтической стихией, равнодушной к человеку с его страданиями и страстями. Она могла еще служить прибежищем для героических искателей типа Алеко или Оленина, бежавших к ней от жизненных неурядиц и душевной пустоты.
Неверно говорить, что у Чехова нет этого старого мотива; но бежать нужно было не просто к природе, до которой, как до околицы, рукою подать, а в очень отдаленные и безлюдные края, о которых никто не думал и не писал во времена Пушкина или Тургенева: «Сибирь — такая же Россия, такой же Бог и царь, что и тут, так же там говорят по-православному, как и я с тобой. Только там приволья больше и люди богаче живут. Все там лучше. Тамошние реки, к примеру взять, куда лучше тутошних! Рыбы, дичины этой самой — видимо-невидимо!» («Мечты»).
Между тем слово «Сибирь» — одно лишь слово, один лишь ужасный звук его, памятный каждому с детства, — обладало огромным потенциалом трагедийных значений и не могло гармонически, без острых противоречий, влиться в новый контекст. Слова обладают памятью; в словах отзываются смыслы отзвучавших речей, за ними стоят тени. «Сибирь» — не слово даже, а страна теней, возвращавшаяся с Чеховым к новой жизни. Большой писатель знает, что слово хранит воспоминания и пробуждает их, и часто лишь поэтому оно ему необходимо…
До Чехова в нашей литературе были невозможны ни письма «Из Сибири», ни, например, такой набросок из записной книжки: «А мне хочется в Сибирь. Сидишь где-нибудь на Енисее или Оби с удочкой, а там на пароме арестантики, переселенцы… А здесь я все ненавижу: эту сирень за окном, эти дорожки с песочком…»
В основе творчества лежит личный опыт художника, его душевная память, все, что он «успел пережить и постичь душою». Но писатель обращается к словарю своих предшественников поневоле, поскольку «литература — это искусство, которое пользуется только словами». Он отбирает то, в чем всего полнее выражается его традиция, то, что в словаре ощущается им как свое. Каждое его слово вырастает из памяти, из прежних прочтений.
В чеховских описаниях природы всегда есть соотнесенность времен. Студент Иван Великопольский, поеживаясь от пронизывающего ветра, идет к мерцающему далеко в поле одинокому огню костра, думая о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и такая же была тогда лютая бедность, голод, как и теперь, такие же худые соломенные крыши, невежество, пустыня кругом, чувство гнета. И у костра, просветленный разговором с двумя простыми женщинами, терпеливо несущими тяжесть своей жизни, думает о прошлом, которое связано с настоящим непрерывною цепью событий, и о том, что правда и красота направляли человеческую жизнь от начала времен и всегда составляли главное в ней и вообще на земле.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: