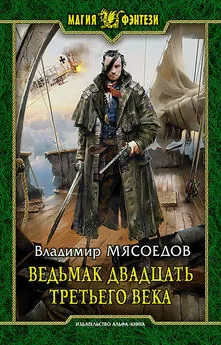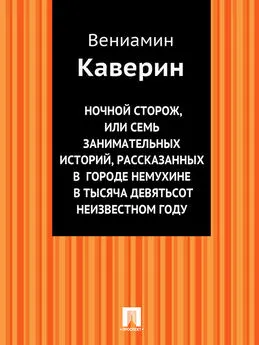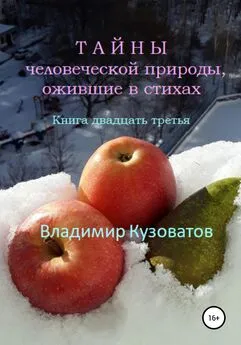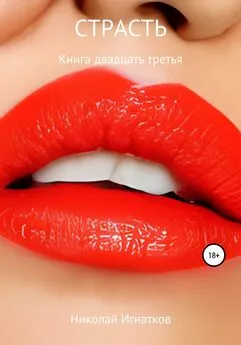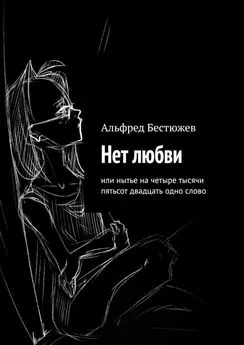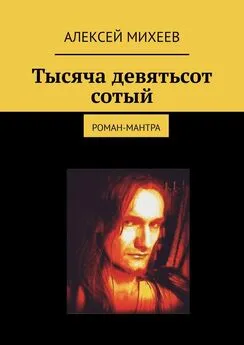Нина Соболева - Год рождения тысяча девятьсот двадцать третий
- Название:Год рождения тысяча девятьсот двадцать третий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ГУП Редакция журнала Сибирские огни
- Год:2005
- Город:Новосибирск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Соболева - Год рождения тысяча девятьсот двадцать третий краткое содержание
Перед вами дневники и воспоминания Нины Васильевны Соболевой — представительницы первого поколения советской интеллигенции. Под протокольно-анкетным названием "Год рождение тысяча девятьсот двадцать третий" скрывается огромный пласт жизни миллионов обычных советских людей. Полные радостных надежд довоенные школьные годы в Ленинграде, страшный блокадный год, небольшая передышка от голода и обстрелов в эвакуации и — арест как жены "врага народа". Одиночка в тюрьме НКВД, унижения, издевательства, лагеря — всё это автор и ее муж прошли параллельно, долго ничего не зная друг о друге и встретившись только через два десятка лет. Книга прекрасно написана и читается как увлекательный роман, — стойкость, мужество и высокие моральные качества автора которого вызывают искреннее восхищение.
Год рождения тысяча девятьсот двадцать третий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Начался концерт. Зал небольшой, беломраморный, вдоль боковой стены — драпировка желтого шелка, такая же обивка белых кресел, и даже рояль — белый. Сначала все было хорошо. Музыка и вправду прекрасная. Пианист — потрясающий. Длинный, тощий, согнулся в своем черном фраке над белым роялем и терзает его, рвет, как будто какая-то хищная птица свою добычу… Так ему аплодировали, аж хрустальные подвески люстры дрожали!
Во втором отделении он начал «этюды» Шопена играть, и мы с Адкой настроились слушать. И вдруг на нас смех напал! Ни с того ни с сего! Она что-то шепнула мне, а я не поняла и фыркнула. Соседняя дама на нас шикнула, мы взглянули друг на друга… Ну, а дальше уже никакого удержу не было! И рты себе зажимали, и руки щипали, и за барьерчик ложи прятались, но ничего поделать с собой не могли — трясемся от смеха, да и все тут! Так, почти на четвереньках, и вылезли из зала, а уж на лестнице (мраморной, в зеркалах!) до того хохотали, что швейцар нас чуть взашей не вытолкал.
И на улице долго не могли успокоиться, даже прохожие оборачивались. Шли домой пешком, по набережной мимо Зимнего, Исаакия, вдоль канала Грибоедова, через Поцелуев мостик, за спиной Мариинки, а там — в конец Садовой, к Адкиному дому-«утюгу» (он зажат между Фонтанкой и Садовой, и в плане — как острый треугольник). Путь неблизкий, но мы шагали в темпе марша. Мокрый снег в лицо лепит, ветер, а мы чеканим шаг и песни в такт поем, благо прохожих нигде не было. Лучше всего «Ах, зачем ты меня целовала» получалось. И еще любимая песня октябрят «Двенадцать негритят пошли купаться в море, двенадцать негритят резвились на просторе, один из них утоп, ему купили гроб, и вот вам результат — одиннадцать негритят…».
Продолжаю на уроке военного дела — на немецком чуть не погорела, увлеклась писаниной и вдруг — Маргоша: «Лаврентьева! Чем вы заняты?» Еле тетрадь успела спрятать. Вот была бы умора, если б она, заглянув, по своей привычке через плечо, прочитала вместо «высокой немецкой классики» — «двенадцать негритят!..».
На военном деле сегодня теория — «Средства химической войны». Дядька близорукий, нудный потом спишу у кого-нибудь. Вот когда в тир ходим — это я люблю, у меня уже значок юного Ворошиловского стрелка заработан.
Итак, закончу про вчерашнее. Точнее — про Адку. Когда мы расстались, я по Фонтанке домой шла и все про нее думала. Познакомились мы с нею этим летом, в Рождественском пионерском лагере. Захотелось мне в этом году с лагерной жизнью попрощаться, хотя бы в качестве «дочки библиотекарши». Мы с мамой в отдельном доме жили, «при библиотеке». Собственно, это был не дом, а обычная большая изба. Рождествено [4] Куровицкую мызу Копорского уезда с селом Грязно Петр подарил своему сыну Алексею Петровичу. В селе была построена церковь Рождества Богородицы, после чего и имя села изменилось на более благозвучное «Рождествено». Усадьба связана с именем писателя В. В. Набокова.
— это старинное село, где над обрывом сохранилась помещичья усадьба чуть ли не потомков Петра. Рядом — красивая церковь красного кирпича, а за мостом, на высоком тенистом холме — кладбище, на котором похоронена мать Рылеева. В двух километрах от Рождествено — другое село, Выра. Это в нем жил «Станционный смотритель» и, как говорят, бывал Пушкин, где и услышал историю про его дочку.
Так вот, пионерский лагерь, в котором работала летом мама, занимал двухэтажное школьное здание и несколько изб в центре Рождествено. Я была свободна от лагерного режима, но вместе с ребятами старшего отряда ходила в походы, на танцы, на вечера возле костра. Там я и познакомилась с Адой, и понравилась она мне ужасно. Всем понравилась. И тем, что на девчонок других не похожа — не интересуется тряпками, сплетнями. И тем, что к своей внешности равнодушна, похожа на мальчишку — белоголовая, с короткой стрижкой. Ходит спокойно, немного враскачку. Хорошо слушает, улыбается чуть насмешливо, но не обидно. О себе говорит мало, сдержанно, никогда не хвастает. И уж совершенно нельзя представить, чтобы она плакала или набивалась с «душевными излияниями», или суетилась, лезла в чьи-то чужие дела… Короче — нравится она мне во всем! Даже имя ее необычное — Армида Неретниеце [5] Неретниеце Ада (Армида) Мартиновна. Родилась 2 июня 1924, Ленинград. Режиссер, заслуженный деятель искусств Латвии. Окончила режиссерский факультет ВГИКа (1949, мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой). Наиболее известные режиссерские работы: «Смерть под парусом» (1977), «Гадание на бараньей лопатке» (1988).
. И то, что она латышка, дома с мамой по-латышски разговаривает (отец у нее пропал без вести в 37-м, и об этом ни спрашивать, ни говорить нельзя).
Вот вроде всего каких-то полгода прошло, как мы с ней знакомы, но знаю, что за это время я изменилась. Читать стала иначе, т. е. я всегда много читала, но «заглатывала» все подряд и, главным образом, беллетристику. А в этом году, если б не Адка, то, вероятно, так бы и не открыла для себя такие «заумные» (мне думалось) книги, как, например, «Эмиль» Руссо — оказалось, там много полезного о самовоспитании; переписка Чайковского с фон Мекк [6] Надежда Филаретовна фон Мекк (1831–1894) — меценатствующая вдова российского железнодорожного магната Карла фон Мекк. Много лет оказывала финансовую поддержку П. И. Чайковскому, с которым по взаимному соглашению никогда не встречалась. Переписка Чайковского с фон Мекк продолжалась все эти годы и составила три объемистых тома, вышедших в 1934 г. в издательстве ACADEMIA.
(надо же, тринадцать лет переписывались, а встретиться так и не пришлось!), письма Чехова (теперь Чехов для меня совсем родным человеком стал); «Работа актера над собой» Станиславского (очень интересно об актерской «муштре» и «кругах внимания»). И даже в сочинения Шопенгауэра и Ницше нос сунула — выяснилось, что кое-что понятно, хотя зауми больше.
Адка читает много, всерьез. И точно знает, что будет кинорежиссером. Для этого изучает (именно изучает, а не почитывает) историю театра, кино, музыки, живописи, скульптуры. И вот уже три года занимается в кружке при Эрмитаже и поэтому здорово знает зарубежное искусство.
Мне так хотелось быть похожей на нее, что я осенью тоже записалась в эрмитажный кружок и уже полгода, дважды в неделю, хожу туда. И это очень интересно! Конечно, я и раньше в Эрмитаже бывала, но как все — с экскурсией от школы. А теперь — совсем другое: мы приходим своей группой по 15 человек. Таких групп школьников что-то около сотни. Это директор Эрмитажа академик Орбели [7] Орбели Иосиф Абгарович (1887–1961) — советский востоковед и общественный деятель, академик АН СССР, академик АН Армянской ССР и её первый президент. С 1920 работал в Государственном Эрмитаже, где создал отдел Востока — крупнейший тогда центр советского востоковедения; в 1934–1951 — директор Эрмитажа. В годы Великой Отечественной войны, оставаясь во время блокады в Ленинграде, вёл большую работу по сохранению музейных ценностей; после войны руководил восстановлением Эрмитажа. Вел большую педагогическую работу и создал школу советских кавказоведов.
организовал такое. И вечерами, когда музей уже закрывается, наша руководительница ведет нас к картинам какого-нибудь одного художника. Обычно мы знакомимся не больше, чем с одним за вечер. Это получается прямо как личное знакомство — не только его работы, но и как жил, какой характер у него был, с кем дружил, с кем враждовал. После этого совсем по-другому и на картины смотришь.
Интервал:
Закладка: