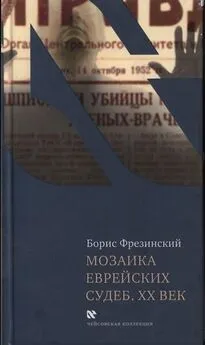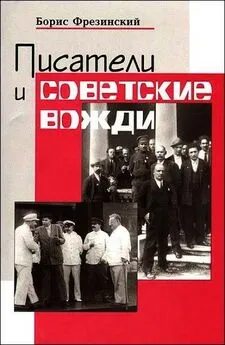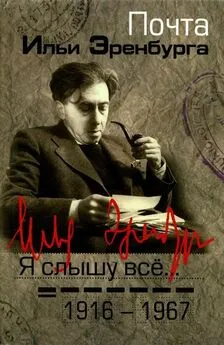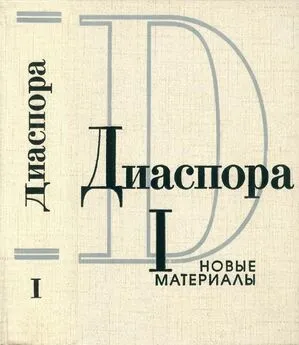Борис Фрезинский - Судьбы Серапионов
- Название:Судьбы Серапионов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Академический проект
- Год:2003
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-7331-0168-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Фрезинский - Судьбы Серапионов краткое содержание
Книга Б. Я. Фрезинского посвящена судьбе петроградских писателей, образовавших в феврале 1921 г. литературную группу «Серапионовы братья». В состав этой группы входили М. Зощенко, Н. Никитин, Вс. Иванов, М. Слонимский, К. Федин В. Каверин, Л. Лунц, И. Груздев, Е. Полонская и Н. Тихонов.
Первая часть книги содержит литературно-биографические портреты участников группы (на протяжении всего творческого и жизненного пути). Вторая — на тщательно рассмотренных конкретных сюжетах позволяет увидеть, как именно государственный каток перемалывал судьбы русских писателей XX века, насколько губительным для них оказались попытки заигрывать с режимом и как некоторым из них удавалось сохранять человеческое достоинство вопреки обстоятельствам жестокого времени. Автор широко использовал в книге малоизвестные и неопубликованные материалы государственных и частных архивов. В качестве приложения публикуются малоизвестные статьи участников группы, а также высказывания их коллег, критиков и политиков 1920-х гг. о Серапионовых братьях.
Судьбы Серапионов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Наклонился он с седла, под шапку мне смотрит — широкобородый. Как кедрак пьян (по духу чую), страшно:
— Ка-ак, ты, б… этакая, без Бога смеш жить?
И пошел у нас тут спор о вере — старожил оказался киржак-раскольник. Веру я мужицкую знаю крепко. Наганы спрятал, говорит:
— Эвон, огонь видишь: неси туда моим приказаньем мешок муки и боченок масла.
— У меня нет.
— Казенный на складе имеется?
— За замком, ломать не могу, хоть бы имелось.
— А ты не ломай, ты пленный, законно не имеш прав ломать. А я сломать могу. Покаж.
Три версты тащил я ему из сломанного вагона куль крупчатки и впереди себя катил боченок масла. А в избе баба с широким — как телега — задом. По скамьям куски ситцев, на полатях барские сундуки, картина какая-то, проткнутая штыком, граммофон гудит. На столе в ведре самогона ковш. Пили мы всю ночь, ширококостная баба пекла блины и спорили мы о Боге и треперстном кресте.
— Приезжай, — говорил, обнимая меня Селезнев. — Приезжай ко мне на лето, Сивовот.
Больно ты материться можешь и в Бога не веруешь, весело, приезжай.
А на другой день увезли нас в Новониколаевск. В городе мороз и ветер. Тиф. Трупы валялись у насыпей, и когда я шел к станции железной дороги, видел: собака тащила человечью ногу с выеденной до кости икрой. Из Чека меня направили еще куда-то. Там порылись в бумажках и переспросили:
— Ваша настоящая фамилия Иванов?
— Да, Всеволод Иванов, а по «очкам» — Евгений Тарасов.
Еще подумал некий во френче, написал записочку, в какое передвижное Чека, а там порылись опять и сказали торопливо:
— Раз вы Всеволод Иванов, значит вы арестованы.
Арестованных и колчаковских пленных тогда было тысяч десять. Поездами привозили с разъездов трупы замерзших — на кого мне теперь сердиться? Оказывается: был еще у Колчака Всеволод Иванов, редактировал в Омске газетку и писал патриотические стишки. В камере помещалось нас семнадцать человек, на утро пришел солдат и сказал:
— Одевайтесь, на улку айда! Барахла можно не брать.
— Куда?
— «На колчаковскую ярманку».
Повели нас всех за город. В испуге я забыл надеть шапку, волосы у меня тогда были до плеч, — ветер на улице так и вздыбил. Конвойный обернулся:
— Ты пошто без шапки?
Объясняю. Без шапки, говорит, нельзя. Остановил отряд. Утро было уже большое. Служащие шли в учреждения. Взошел конвойный на тротуар и с какого-то буржуя сдернул хорошую меховую шапку:
— Ну, типерь пошли.
Тем временем столпились. Слышу кричат:
— Товарищ Иванов!
Смотрю: наборщик Николаев, в семнадцатом году вместе на конференции печатников были. Рука на перевязи и на груди красноармейские значки. Комиссар, видимо. Объясняет конвойному, почему меня нельзя расстреливать, ибо я совсем большевик. Солдату, должно быть, надоело слушать, докурил папироску и сказал:
— Наше дело разве судить? А раз тебе его надо — бери.
Николаев вывел меня из толпы под руку, а остальных увели за город.
Через час мне дали временное удостоверение и пропуск из города.
Это, конечно, не все — так как идет с 1917 года одна моя дорога — смертная. И тому, что жив, — радуюсь.
Видел растянувшиеся на сотни сажен мерзлые поленницы трупов. В снегах — разрушенные поезда, эшелоны с замерзшими ранеными. Видел, как партизаны жгли трупы (закапывать не хватало сил), — один ряд трупов, другой ряд бревен из изб и так на двухэтажную высоту. И от человеческого дыма небо было словно копченое. Тупики, забитые поездами с тифозными, и сам я в тифу, и меня хотят соседи выбросить из вагона (боятся заразиться), а у меня под подушкой револьвер, и я никого не подпускаю к себе (выбросят — замерзнешь, а наш вагон все же кто-то топил). И так в бреду семь суток лежал я с револьвером и кричал:
— Не подходи, убью!
А по бокам дороги в крестьянских хлебах награбленные штуки материй. Ветер, словно камни, и простые, как огонь, смерти. И мохноногие мужики, учившие меня — не знать страха:
— Коли ты в Бога не веруешь, дави кулаком на сердце и главно дыши, парень, поглубже, чтобы пропотеть. Раз вспотеш, все можно сделать.
В Татарском уезде, в тайге, был инструктором по внешкольному делу. Там за открытие школы и избы-читальни в поселке Брусничном подарил мне сход два мамонтовых клыка, найденных в те дни в Урмане.
В Омске был на газете выпускающим и корректором, из Омска помог мне выбраться Алексей Максимович и Г. Устинов — друг вечный. В Петербург прибрел в январе 1921 года, здесь и стал питаться близ Дома Ученых и писать, что было давно надумано. В мае попал к «Серапионам» — Братом Алеутом.
Пишу я с 1916 года, но мало печатал. Всю революцию не писал, разве статьи (очень глупые). Напечатаны: книжка рассказов «Лота», повести: «Цветные ветра»; «Партизаны»; «Бронепоезд № 14, 69». Печатается книга рассказов «Седьмой берег», в «Красной Нови» — роман «Голубые пески» и кончаю роман «Ситцевый зверь».
Приблизительно — все.
Всеволод Иванов.Родина моя — Саратов. Детство — окружные деревеньки — Евсеевка, Синенькие, Увек, Поливановка, Курдюм и Разбойщина. Заброшенные сады, рыбачьи дощаники, буксиры, крепкий анис.
На лодке катал меня реалист Балмашев.
В овраге под Синеньким-селом ел галушки, зубрил: <���далее все через ять — Б.Ф.>еду, ем, бес, белый, беда, бегать, победа, обещать. Мука была. А нынче все это через «е» пишется.
Школа.
В городе учился на скрипке, с другом Толькой Хворостухиным по сараям и каретникам цирк устраивал, в училище оперу «Зайкина Невеста» пел, на концертах скрипачом и чтецом выступал. В алтаре Митрофаньевской церкви служкой был, в престольные праздники ездил с попами по приходу.
Позже — заволжская степь, Уральск, река Чаган — черный, нелюдимый — сады на нем, а в нем — окунь, линь, карась.
В Саратове, на Ильинской улице в страхе и дроже смотрел, как несли черный флаг с белыми буквами: «Смерть Сипягина, — казнь Балмашева». По ночам снились эти буквы и еще: как катает меня на лодке реалист Балмашев и добро улыбается.
А еще позже — в училище забастовку устраивал, погромы с матерью в погребе отсиживал (дверь на погребицу тоненькой веревочкой завязал), страшно было. Пожаров, стона и того, как с иконами в руках у ворот стояли, чтобы отвести погром; и того, как на глазах поляка разорвали, а я топал ногами и плакал; и того, как своего учителя скрипача (Гольдмана) в кухне под лестницу спрятал и луком прикрыл — никогда не забуду.
И тут почувствовал себя взрослым (четырнадцатый шел), начал с отцом спорить, на вокзале провожая перводумцев, трудовикам в ладоши хлопал и марсельезу пел. От жандармов спасся бегством.
Отец отнесся ко мне иронически.
За это я бросил учиться, заложил в ломбарде скрипку и бежал в Москву.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: