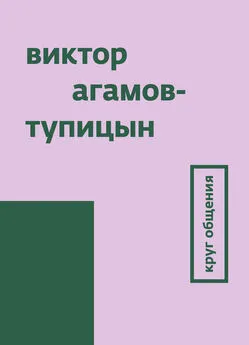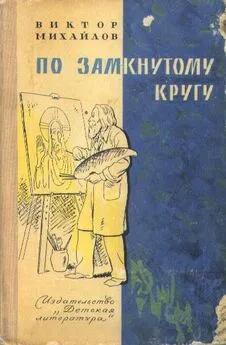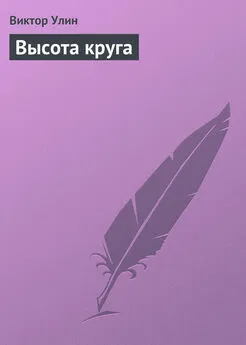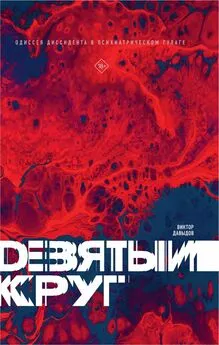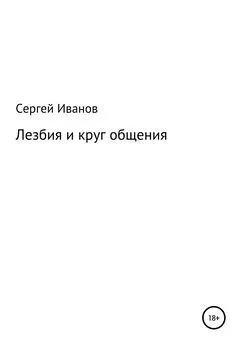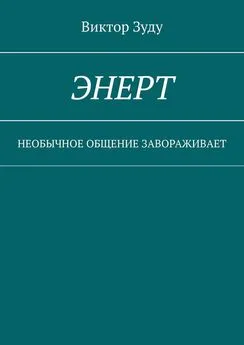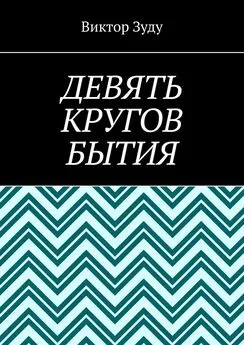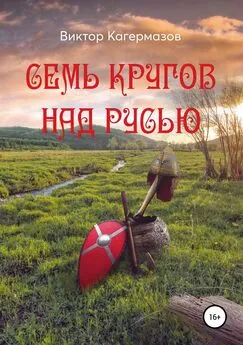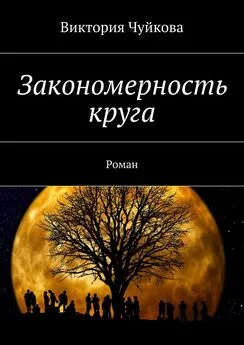Виктор Агамов-Тупицын - Круг общения
- Название:Круг общения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Ад маргинем»fae21566-f8a3-102b-99a2-0288a49f2f10
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-140-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Агамов-Тупицын - Круг общения краткое содержание
Книга философа и теоретика современной культуры Виктора Агамова-Тупицына – своеобразная инвентаризация его личного архива, одного из самых богатых источников по истории русской арт-сцены последних сорока лет. Мгновенные портреты-зарисовки, своего рода графические силуэты Эрика Булатова, Олега Васильева, Ильи Кабакова, Бориса Михайлова, Андрея Монастырского, Павла Пепперштейна, Эдуарда Лимонова, Алексея Хвостенко и других художников и писателей прошлого и нынешнего века образуют необычный коллаж, который предстает самостоятельным произведением искусства.
Круг общения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
27.07.2010

18.1
Леонид Соков, инсталляция на выставке «Damaged Utopia», Kunstlerwerkstadt Lotringer Strasse, Мюнхен, 1995.
Л.Р.: Во-во…
01.09.2010
В.А.-Т.: Лев Семеныч! Пока ты там изнывал от удушья, мы успели съездить в Армению, где проходила конференция, посвященная моей книге «The Museological Unconscious». Для нас это была возможность оплачиваемого путешествия в зазеркалье «генетической идентичности», учитывая, что мы оба наполовину армяне. Никаких эмоций, связанных с причастностью к генофонду, увы, не возникло, однако нам удалось поездить по разным любопытным местам и «полюбоваться» друг другом на фоне горы Арарат, озера Севан и развалин Звартнотс. Дай знать, если у тебя есть время ответить на мои вопросы, т. к. книга «Круг общения» уже готова, и мне бы хотелось прервать с ней связь как можно скорее (с глаз долой – из сердца вон). Беседа с тобой – единственное, что остается в подвешенном состоянии. В случае отсутствия настроения – оповести.
06.09.2010
Л.Р.: Витя, ужасно виноват перед тобой за свое молчание. Но что делать, если сначала в Москве творилась такая жара, что я вообще не мог ни о чем думать, кроме как о кондиционере. А потом уехал в Грузию (!), откуда вернулся только вчера. Не сердись, но в ближайшее время я вряд ли смогу ответить на твои вопросы – слишком много текущих дел навалилось. Уж обойдись без меня! Уверен, что книга от этого не пострадает. Или отложим на осень? С любовью, твой ЛР. 06.09.2010
В.А.-Т.: Лев, Лев, Лев. Видел тебя в Венеции на знамени святого Марка. Ты был неотразим и мог бы осчастливить каждого, для кого поиски утраченного времени – не пустой звук. В моем случае это не совсем так. Я, признаться, и сам не знаю, чего хочу. Пишу, потому что не могу не писать. Инерция? Дурная привычка? А как у тебя с этим делом? Неужели не надоело? Я всегда поражался тому, как некоторые из моих знакомых доводили себя до крайности, заканчивая очередную книгу на смертном одре. Впрочем, о чем это я? Надеюсь, увидимся в Москве. Что касается интервью, то есть две возможности: (1) «продолжить» его позднее;
(2) напечатать в виде уже существующей переписки по этому поводу. Последний вариант – вполне в духе твоих поэтических текстов и моего собственного блуждания вокруг да около. Как ты на это смотришь? Продолжение следует .
111
В. Агамов-Тупицын, М. Мастеркова-Тупицына. Москва – Нью-Йорк: Переписка Виктора Тупицына и Андрея Монастырского. WAM № 21, 2006, С. 132, 163. Письма от 10.09.1977 и 10.04.1980.
Леонид Соков: тени скульптур XX века
Если абстрагироваться от искусствоведческого или цехового арго, то скульптурный багаж Леонида Сокова 1970–1980-х годов можно воспринимать как искусство реконтекстуализации советского опыта в рамках постмодернизма (см. ил. 18.1). Этот вариант реконтекстуализации получил название «соц-арт» (художественное явление, возникшее в Москве в 1972 году благодаря усилиям концептуальных художников Комара и Меламида и живописца Эрика Булатова). В начале 1970-х годов соц-артистский проект привлек внимание нескольких скульпторов, включая Сокова, Бориса Орлова и Александра Косолапова. На протяжении многих лет некоторые из этих художников живут на Западе, продолжая (с беззаветным упрямством) уповать на легитимацию советской культурной идентичности по ту сторону геополитического шлагбаума, за пределами бывшего СССР. Урок, который они (бес)сознательно игнорируют, состоит в том, что при перемещении из российского контекста в западный упомянутая культурная идентичность чревата конфликтом, не поддающимся адекватной критериологической обработке. В текстах французского философа Ж.-Ф. Лиотара такого рода конфликт определяется как «распря» ( diff erend ).
Распря между соцреализмом и модернизмом визуально перефразирована в работе «Встреча двух скульптур» (Ленин и Джакометти), 1987. Соков, воспринимавший соцреализм как лубок, перенес эту «аллегорию прочтения» на классический модернизм. И если в случае Орлова «позирующей» ему моделью всегда было имперское сознание, то у Сокова та же ситуация принимает несколько иной оборот: геополитическая реальность, коллапсирующая в лишенную времени сказочную нарративность, трактуется им как фольклор, а имперские амбиции и пафосные жесты занижаются до уровня народного промысла. Похоже, что у многих выходцев из России не только подсознание, но и память структурирована как фольклор. Поэтому наши воспоминания обладают яркостью вымысла.
Заслуга Сокова 112в том, что, придав наглядность парадоксальному сходству между идеологиями – советской и американской, он продемонстрировал их скрытую карнавальность и даже лубочность. Пример: «Сталин и Мерилин [Монро]» (1989). По словам Ильи Кабакова (И.К.), « в период с конца 1970-х до начала 1990-х годов соковские вещи, изображавшие Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева, были вполне актуальными: их время еще продолжалось. Нередко эти персонажи предстают перед нами в виде когтистых зверей, которые как бы высовываются из-за горизонта: с одной стороны, дикое и смешное, с другой – вполне реальное в смысле угроз. Это двойное ощущение опасности и (одновременно) идиотизма – очень характерно для эпохи холодной войны .
В.А.-Т.: Получается, что в отрыве от привычного идеологического контекста идеология воспринимается как фольклор. Не означает ли это, что понятие фольклорности опосредовано взглядом извне? Пример – Соков, осознавший фольклорность идеологии за пределами ее контекста.
И.К.: Соков сейчас, как мне кажется, все больше и больше отталкивается от прошлого, придавая ему былинные, сказочные формы. Тем более что оно и так, само по себе, безнадежно мифологизировано.
В.А.-Т.: Это так еще и потому, что настоящей истории и правдивой документации событий, связанных с жизнью страны, ее граждан и ее властителей, никогда не было. Был только миф. Вся Россия – это фольклор. Вот почему представителей советской художественной интеллигенции следует считать народными умельцами, хотя многим из них казалось, будто они занимались «высоким искусством». Клиническая ситуация. В этом смысле Соков единственный нормальный русский художник 113.
Беззаветное упрямство, о котором шла речь до этого, само по себе искусство, но, что не менее важно, оно предохраняло и продолжает предохранять Сокова и его коллег от возможности быть интегрированным в индустрию культуры – социалистическую (в СССР) и капиталистическую (на Западе). Потому что, как только подобное интегрирование происходит, искусство превращается в свое собственное надгробие. Соответственно, музеи и sculpture gardens (скульптурные оазисы на музейных газонах) можно сравнить с Элизиумом, заселенным тенями умерших. В этом смысле название главной соковской инсталляции «Тени скульптур XX века» (2001) говорит само за себя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: