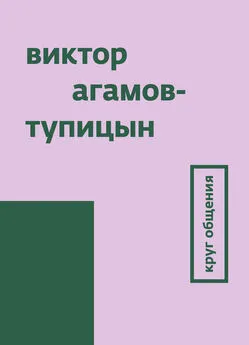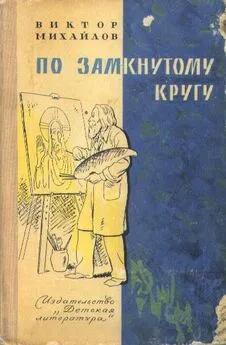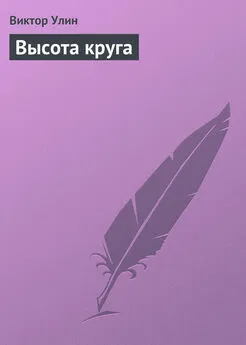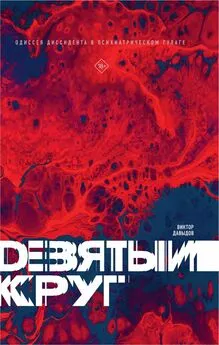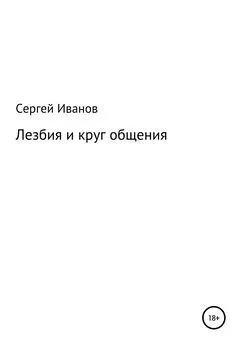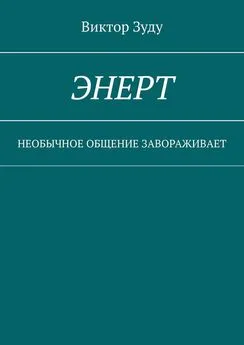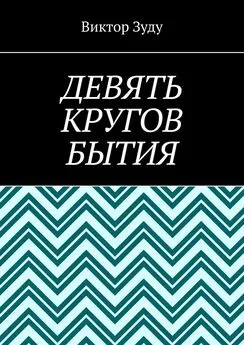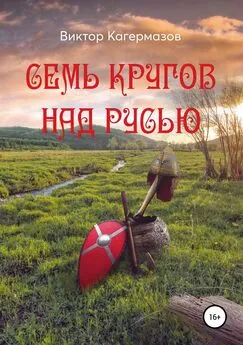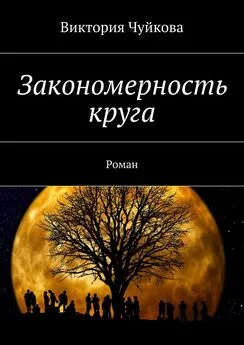Виктор Агамов-Тупицын - Круг общения
- Название:Круг общения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Ад маргинем»fae21566-f8a3-102b-99a2-0288a49f2f10
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-140-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Агамов-Тупицын - Круг общения краткое содержание
Книга философа и теоретика современной культуры Виктора Агамова-Тупицына – своеобразная инвентаризация его личного архива, одного из самых богатых источников по истории русской арт-сцены последних сорока лет. Мгновенные портреты-зарисовки, своего рода графические силуэты Эрика Булатова, Олега Васильева, Ильи Кабакова, Бориса Михайлова, Андрея Монастырского, Павла Пепперштейна, Эдуарда Лимонова, Алексея Хвостенко и других художников и писателей прошлого и нынешнего века образуют необычный коллаж, который предстает самостоятельным произведением искусства.
Круг общения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В инсталляции «Тьма» (Винзавод, январь, 2007) Андрей Монастырский вывесил на стене небольшой текст. Его удаленность от входа исключала возможность прочесть написанное, не приближаясь к нему вплотную. Однако при попытке подхода свет автоматически выключался. Узнав об этом, я принес с собой карманный фонарь. Идея сработала, лишний раз подтвердив тот факт, что для раскрытия сокровенных тайн иллюминация не должна быть всеобщей. У сквозного зрения есть свои плюсы и свои минусы. Чтобы создать о них представление, имеет смысл сопоставить две аллегории пещеры – платоновскую и ту, что фигурирует в сочинениях Цицерона. Для Платона сумеречный образ пещеры – это, выражаясь языком Хайдеггера, мир «неподлинного бытия», тогда как запещерное пространство (по определению) преисполнено «света истины». Цицероновская модель пещеры, напротив, примиряет ее обитателей с искусственным освещением, приспособленным для социализации тьмы. Цицерон, как и стоики, настаивал на автономности внутрипещерного зрения, не нуждающегося в аффирмации (одобрении) извне. Ему казалось, что причудливая игра теней, отбрасываемых на стены грота, – это мир искусства с его люминесцентными иллюзиями и блистательными самообманами, затмевающими сияние универсального (платоновского) света 208.
Еще один «первоисточник» упоминается в книге «Flesh and the Ideal», в которой ее автор Alex Potts рассказывает, как Иоганн И. Винкельман устраивал для своих фешенебельных гостей прогулки по ночному Риму. Он показывал им статую Аполлона Бельведерского, иногда озаряя ее светом свечи (см. ил. 27.1). Potts уверяет, что тело Аполлона фрагментировалось по мере того, как Винкельман приближался к нему с разных сторон, чтобы осветить затемненные части скульптуры. Он знал, что эти мерцания, а также связанный с ними «мотыльковый эффект» есть именно то, что формирует художественную среду – круг общения.

27.1
Борис Михайлов, фото из серии «Сюзи и другие», Харьков, 1970-е.
Попытки пролить свет на истину, «заточенную» в Бастилию форм, не увенчались успехом: инфра-идеал так и остался погруженным во тьму. В связи с этим возникла идея Темного Музея 209, музея без освещения, куда зритель может прийти с фонариком и, продвигаясь по залам, высвечивать только фрагменты произведений. Реагируя на вспышки и проблески, сознание перестает опираться на «авторитарный свет», от имени которого оно получает санкцию на идео логизацию внешнего мира. Тем самым экспонаты предохраняются от носителей «вирусов», а сами носители – от идеологических выводов.
В отличие от Идеи, обладающей «внутренней дифференциацией» 210, идеология чаще всего тотальна, ее цель – прозрачность (всеобщая проницаемость), тогда как лицезрение фрагментов не позволяет точно, во всей полноте идентифицировать суть проблемы. Поэтому парадигма Темного Музея может стать новой возможностью для «неидеологического зрения». Беда в другом: эта возможность возвращает нас в состояние галлюциноза, в котором мы пребывали в эпоху застоя. И вот почему. Идея Темного Музея распространяется на ценностные категории, содержащиеся в условиях искусственной затемненности и припрятанные во избежание встречи с другим . С точки зрения российских художников, переводимость со своего языка на язык другого – Радамантово прикосновение, в результате чего их искусство рискует стать идентичным своему рыночному эквиваленту. Им кажется, что как только оно (это искусство) переберется в хорошо освещенный и, не дай бог, западный арт-музей, неминуемо погибнет хранилище аподиктических ценностей и сакральных смыслов, т. е. Темный Музей . Неужели действительно горизонт автономных эстетических практик ограничен дверным проемом между Темным Музеем и индустрией культуры с ее люминесцентными иллюзиями и самообманами (см. ил. 27.2)?
Опасения художников разделяют поэты. А также философы, считающие, что «текст [визуальный или лексический] выживает только тогда, когда он одновременно переводим и непереводим – даже в пределах одного языка» 211. По-видимому, в искусстве должны угадываться «слепые аллеи» – автохтонные зоны, делающие его переводимость частичной и тем самым сохраняющие ему жизнь. Этим, наверное, можно объяснить упорство российских художников, вызванное желанием сохранить непрозрачность своих референтов и своего контекста 212. На мой взгляд, они излишне перестраховываются, т. к. на самом деле хорошее визуальное искусство и хорошая поэзия полностью не переводимы ни при каких обстоятельствах. А значит, усугублять трудности перевода не имеет смысла 213.

27.2
Леонид Соков, проект музея современного русского искусства, 2003.
В предисловии к «Кругу общения» говорилось о том, что художественное освоение жизни и попытки ее концептуализации неизменно, с завидным постоянством «пробуксовывают в жерновах индустрии культуры и индустрии знания. Наивность подхода – в презумпции иерархического детерминизма звеньев , многие из которых ведут себя «независимо от соседа», и в этом смысле «древовидная» модель знания оказывается несостоятельной. Мы давно уже не растекаемся мыслию по древу: знание ризоматично (имеет «корневую» природу). Таким оно предстает перед нами в эпоху глобализации, в эпоху великого смешения когнитивных моделей и механизмов мышления». Древовидной модели жизнеустройства противостоит корневая. С одной стороны, просвещенческий идеал культуры, организованной по иерархическому принципу; с другой – Темный Музей . В книге «Mille plateauх» (1980), написанной в соавторстве с Феликсом Гваттари, Жиль Делез пытался создать некое подобие ризоматического текста (от слова rhizome , «корневище»), особенно когда писал о множественности, уровнях интенсивности и т. п. Соединив интенсивность «номадического» письма с опытом «оседлой» исследовательской работы над текстом, Делез и Гваттари изменили само определение теоретической активности.
Спустя годы романтическое отношение к rhizome и écriture rhizomatique , навеянное чтением «Mille plateauх», привело к загрязнению (замусориванию) этих понятий. Определенную роль здесь сыграла репрезентация, в основном художественная. Пример – «Contamination» (2008), гигантское подобие корневища в исполнении Джоаны Васконселош (Joana Vasconcelos, Palazzo Grassi, Венеция, декабрь 2011). Казалось бы, загрязненность ризомы – повод для воздержания от прибавочной репрезентации, однако «задолбленность» ритуалом, характерная для минимализма и концептуализма, тоже не выход из положения. Корневой китч не хуже и не лучше древесного . Вообще говоря, плохое искусство – это подарок судьбы. Оно наводит на размышления, чем отличается от арт – продукции, не вызывающей возражений. Многое из того, что мы оцениваем позитивно, всего лишь предлог для аффирмации наших взглядов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: