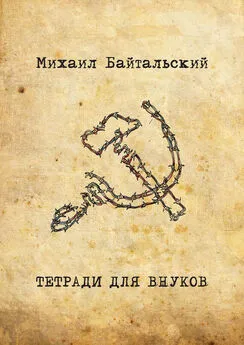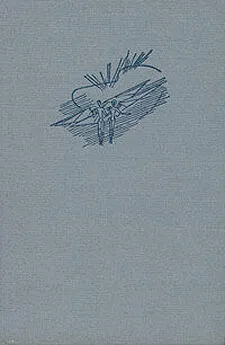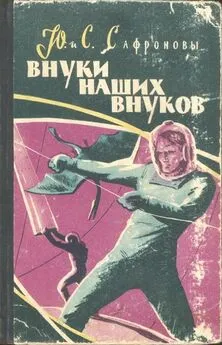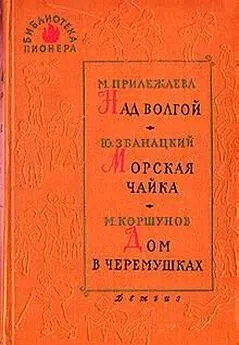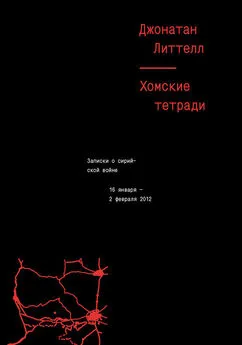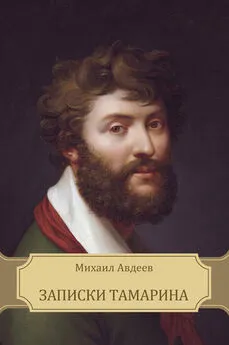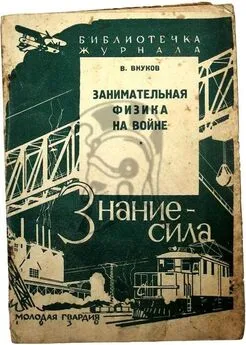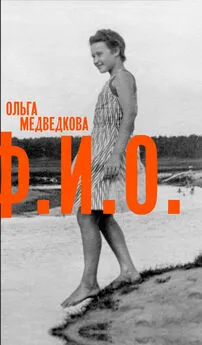Михаил Байтальский - Тетради для внуков
- Название:Тетради для внуков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Книга-Сефер»dc0c740e-be95-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Байтальский - Тетради для внуков краткое содержание
Предлагаемая вниманию читателя книга мемуаров, хоть и написана давно – никогда не выходила на русском языке полным изданием. Лишь отдельные главы публиковались незадолго до смерти автора в русскоязычных журналах Израиля «Время и мы» и «22».
Михаил Давыдович Байтальский родился в 1903 году, умер в 1978. Его жизнь пришлась на самую жестокую эпоху едва ли не в мировой истории, а уж в истории России (от Московского царства до РФ) наверняка. Людям надо знать историю страны, в которой они живут, таково наше убеждение. Сегодняшняя власть тщательно ретуширует прошлое – эта книга воспоминаний настаивает на том, что замалчивание и «причёсывание» фактов является тупиковым развитием общественного сознания и общества в целом. Публикацией этих мемуаров мы рады восстановить хотя бы отдельные страницы подлинной истории многострадальной страны и облик затенённой, пускай и нелицеприятной истины.
Текст мемуаров снабжён примечаниями. Сам М.Байтальский не придавал тому значения, но издание на английском языке нуждалось в комментариях. В нашей версии за основу взяты примечания к «Тетрадям», вышедшем в американском издательстве New Jersey, Humanities Press International, Inc.; 1995. С некоторыми уточнениями и дополнениями. Читателю всё же рекомендуется в случае необходимости обращаться к надёжным сетевым источникам информации.
Тетради для внуков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Такие преимущества, необходимые для пользы дела, можно предоставлять совершенно открыто. Но тайные привилегии противны социализму. Они отрицают ленинские нормы жизни руководителя. Если они даются согласно принципу "по труду", то зачем их скрывать?
Перефразируя известную запись в дневнике Льва Толстого, я сказал бы так: ленинская партийная жизненная норма – это дробь, в которой числителем является твое служение народу, а знаменателем – твое служение самому себе. Я подчеркиваю: партийная жизненная норма, а не норма поведения на собраниях или на службе.
Используя этот критерий, мы увидим, что заботы Сталина, его помощников и его аппарата о народе ничтожны, в каких бы красивых цифрах они ни выражались – слишком велик знаменатель.
Наверное, я совершил ошибку, не уехав сразу из Москвы. Зарыться бы головой в песок где-нибудь в Средней Азии и не думать, заметен ли мой хвост издали. Спаслись же некоторые товарищи! Впрочем, ненадолго – мудрый Юкель снова и снова обходил весь берег и каждый найденный камушек бросал в воду. Лучше перебросить, чем не добросить!
И все же у меня имелся шанс на спасение. Этому шансу едва исполнилось девятнадцать лет. Когда мы с Евой поженились, Ида играла в куклы, а теперь выросла, расцвела и, приехав к нам в гости как раз вовремя, сказала старшей сестре:
– Я бы на твоем месте ни за что не расходилась с Мишей, всю жизнь бы его любила, поверь мне!
Она была простенькой и слишком восторженной девочкой, а я – слишком глубоко вросшим в свой берег камнем. И я остался в Москве ждать своего удела, а она уехала навстречу своему: оказавшись в оккупации, работала подпольно, кто-то ее выдал, и фашисты повесили ее как партизанку и вдобавок еврейку.
… Пролетел без малого год. Поступив на завод в Люберцы, я переселился к брату и в Москву наезжал редко. Порой навещал детей, Володю, маму – она приехала в гости к Ане, младшей сестре моей. Мама ни о чем не спрашивала – казалось, ее успокаивает, что оба сына живут вместе и работают на одном заводе.
Однажды приезжаю к Володе. Мне открывает его квартирохозяйка:
– Вашего друга позавчера арестовали. Я до сих пор дрожу.
– А что искали? – спрашиваю.
– Ах, разве я знаю? Всю его библиотеку разворошили, целую ночь рылись в книгах. Я в чем-то расписалась. Бедный молодой человек! Не знаете, за что его так?
Трудно поверить, но я в самом деле не догадался, за что его так, и приготовиться к собственному аресту не подумал. Была весна, май, пора надежд на лучшее…
Прошло недели три. Мы с братом остались дома одни, его жена гостила в деревне. 25-го мая, в день тринадцатой годовщины моего вступления в партию, в половине двенадцатого ночи к нам пришли.
– Разрешите произвести у вас обыск.
Прокламаций в моих книгах не нашлось. Обнаружили только письма Лены Орловской, ее фотографию и крышку от папиросного коробка с ее надписью: "Прощай, мой единственный друг".
Этот кусок картона я хранил, как память.
Меня увели в люберецкий клоповник, а утром отвезли в Москву.
После выстрела Николаева в наших газетах и во всей системе пропаганды начался заметный поворот в сторону морали. До этого дня обличение общественного зла шло главным образом по линии политической: суды над меньшевиками и шахтинцами, [49]борьба с оппозицией Троцкого, Зиновьева и Каменева, репрессии против кулачества и «подкулачников» – все это шло под соусом политической борьбы. Но после выстрела в Смольном перед всем миром внезапно обнаружился огромный рост морального начала в душе Сталина, и в ход пошли, повторяясь день за днем, бесконечные вариации на тему о советском гуманизме. Его сущность была сформулирована в крылатой фразе тех дней: «Если враг не сдается, его уничтожают». Фраза эта принадлежала великому пролетарскому писателю А. М. Горькому.
При этом считалось аксиомой, что тот, кого держат за шиворот, и есть не сдающийся враг. Готовясь к огромной акции, долженствующей разрешить все внутрипартийные вопросы, Сталин мобилизовал сильнейшее средство, действующее на всякого, даже не весьма политически развитого человека: презрение к подлости и предательству. Теперь задача заключалась в том, чтобы изобразить подлецами и предателями самых ненавистных своих врагов (а по существу – соперников).
Возбуждать гнев против личности самого убийцы не приходилось – он и так закипал в душе каждого. Моральное осуждение одного Николаева не требовало той колоссальной работы, которая была проделана. Сталин желал получить моральную поддержку народа для проведения операции, тысячекратно превышавшей по своей важности приговор одному Николаеву. А для этого требовалось убедить народ, что Николаев – маленький винтик в грандиозном заговоре, возглавляемом Троцким и его сторонниками.
Конкретных доказательств не было никаких. Атмосфера нравственного негодования в таких обстоятельствах – это и есть наилучший фон для организации инсценировки. Негодование охватывает значительно большую массу, чем обсуждение платформы. Разбор уже упоминавшейся "платформы 83-х" – дело сложное. А злодеяние в Смольном – дело ясное для всех от мала до велика. "Смерть убийце!" – был возглас миллионных масс. Оставалось вставить в него одно слово: "троцкистскому". Смерть троцкистскому убийце!
Это слово Сталин вставил в первую же секунду, едва до Москвы дошла весть об убийстве. Еще никакого разбора дела не было, Сталин еще только выехал в Ленинград, чтобы лично руководить следствием, а в райкомах уже знали, что это – дело рук троцкистов, и Ева – не член райкома, а всего лишь секретарь средней парторганизации – уже была проинформирована и, смертельно испуганная, поторопилась признаться, за кем она замужем…
Особенность морали Сталина, так внезапно проснувшейся в нем, заключалась в том, что она была аморальна. Она осуждала только то, что Сталину требовалось осудить. Судите сами: сколько прописей преподносилось нам годами и десятилетиями, но ни разу не прописывалась нам непримиримость к ханжеству, угодничеству, низкопоклонству, лицемерию. Словно бы умолчание об этих пороках равно их отсутствию. А ведь обойтись без ханжества просто невозможно при том изобилии табу и умолчаний, которые навязывались нам годами! Когда о десятках очевидных вещей упоминать не положено, – как не сделаться лицемером? Нет, Сталин внедрял – и не без успеха – иную меру человеческих поступков, меру уголовного кодекса.
И чем дальше развивались события, тем яснее становилось, что мораль была подпущена для специальной цели, а на самом деле главное, к чему приучали народ, – это к страху. Страху перед статьями УК. Потому что нравственность вырабатывается обществом и властям не подведомственна, а уголовные законы разрабатываются государством, и оно может изменять их по мере надобности. С усилением своей роли в жизни общества государство все больше нормирует жизнь своих граждан. И те моральные заповеди, которые государству не нужны, выпали из морального уложения Сталина. Чинопочитание и угодничество его государству ничуть не мешает, скорее – наоборот; значит, они не безнравственны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: