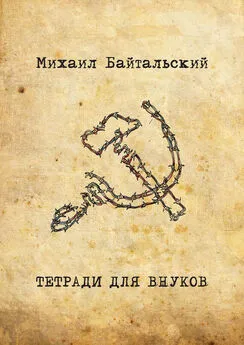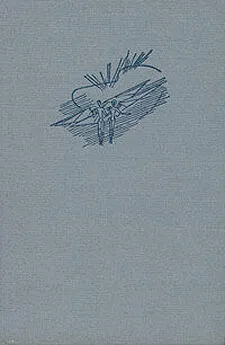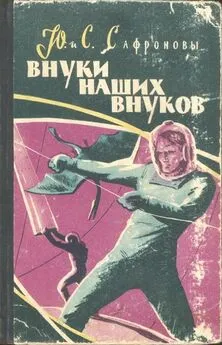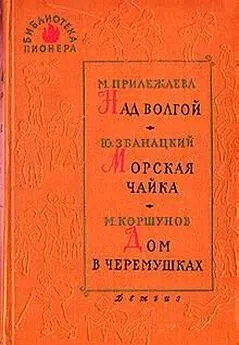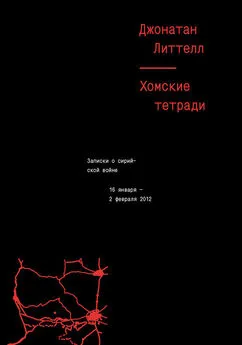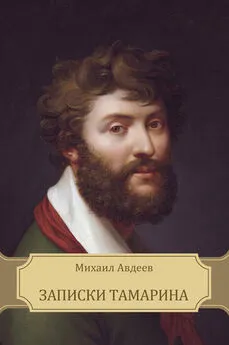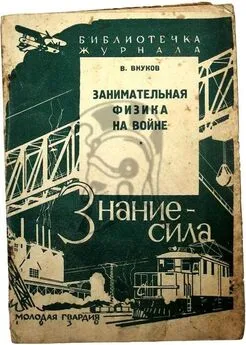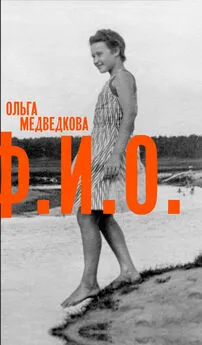Михаил Байтальский - Тетради для внуков
- Название:Тетради для внуков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Книга-Сефер»dc0c740e-be95-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Байтальский - Тетради для внуков краткое содержание
Предлагаемая вниманию читателя книга мемуаров, хоть и написана давно – никогда не выходила на русском языке полным изданием. Лишь отдельные главы публиковались незадолго до смерти автора в русскоязычных журналах Израиля «Время и мы» и «22».
Михаил Давыдович Байтальский родился в 1903 году, умер в 1978. Его жизнь пришлась на самую жестокую эпоху едва ли не в мировой истории, а уж в истории России (от Московского царства до РФ) наверняка. Людям надо знать историю страны, в которой они живут, таково наше убеждение. Сегодняшняя власть тщательно ретуширует прошлое – эта книга воспоминаний настаивает на том, что замалчивание и «причёсывание» фактов является тупиковым развитием общественного сознания и общества в целом. Публикацией этих мемуаров мы рады восстановить хотя бы отдельные страницы подлинной истории многострадальной страны и облик затенённой, пускай и нелицеприятной истины.
Текст мемуаров снабжён примечаниями. Сам М.Байтальский не придавал тому значения, но издание на английском языке нуждалось в комментариях. В нашей версии за основу взяты примечания к «Тетрадям», вышедшем в американском издательстве New Jersey, Humanities Press International, Inc.; 1995. С некоторыми уточнениями и дополнениями. Читателю всё же рекомендуется в случае необходимости обращаться к надёжным сетевым источникам информации.
Тетради для внуков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Гуманизм, склоняемый на все лады в передовицах того времени, имел столько же общего с подлинным гуманизмом, сколько молитвы монахов вокруг сжигаемого еретика с христианским милосердием. Сталин употреблял газетные молитвенные песнопения для того, чтобы поприличнее обставить перевод партийных разногласий на рельсы Уголовного кодекса – точно так же, как молитвы монахов служили для приличного христианского обрамления инквизиционных костров.
Сразу после выстрела началась "борьба" с теми, кого Сталин объявил вдохновителями Николаева. Все средства, применявшиеся в этой борьбе, были провокационными. Провокация началась с первой минуты, когда было сказано: "это троцкисты!" Провокация продолжалась, когда на троцкистов направлялось естественное моральное негодование народа против убийцы; провокация достигла вершины на процессах 1936-37-38 годов. Есть весьма веские основания полагать, что и самый выстрел был провокацией, но об этом пока умолчим.
Шпионаж – самое удобное из всех провокационных средств, прежде всего потому, что наименее всего поддается публичной проверке. Закрытый суд над шпионами никого не удивляет. Правда, козырный туз шпионажа Сталин вытащил из колоды не сразу. Сперва он бросил на стол террористического короля – террор тоже годится для закрытого разбирательства, ведь террорист может быть подкуплен некой иностранной державой.
Народ не успел опомниться, как были расстреляны четырнадцать мнимых террористов, обвиненных в подготовке покушения на Кирова. Следствием руководил Сталин – самолично. По постановлению правительства – не обсуждавшемуся ни в правительстве, ни в Политбюро – с первого декабря 1934 года для разбора дел о терроре применялось ускоренное следствие: на него давалось 10 (десять!) дней.
Десятидневное следствие по такому тяжкому обвинению, как террор, в котором могут быть замешаны целые группы людей, означает – никакого следствия. Но народ этого не знает. Ему показали вещественное доказательство – тело Сергея Мироновича, провезенное на пушечном лафете по улицам столицы. По истечении двух лет, хорошо обыграв террористического короля, Сталин вытащил из колоды и свой главный козырь. На стол истории лег туз шпионажа – крапленый туз, туз без доказательств, взамен которых имелись одни лишь самооговоры обвиняемых. Но, выложенный на стол в атмосфере, подогретой предыдущей игрой, он произвел желаемый эффект. Никто не стал проверять карту на свет. Вместо света гласности чадили кадильницы.
Кто заступится за террористов, которых обвинят еще и в шпионаже? Свой собственный Эмиль Золя? Нашелся такой, и я еще вернусь к нему. Но письмо нашего Эмиля Золя вы не можете прочесть и через тридцать лет. Там, где нет условий для Золя, есть все условия для Вышинского. [50]И следом за «правотроцкистским блоком» пошли Тухачевский с Якиром, потом был расстрелян подписавший им приговор Блюхер, а потом – Эйхе с Постышевым, [51]убийство которых якобы замышляли троцкисты, но которые действительно были убиты – по повелению Сталина.
Как же все это отразилось на состоянии умов, на уровне морали? Как влияли на душу народа все эти столь скудные по фактическому материалу судебные процессы и столь обильные, громкие и однообразные комментарии к ним – газетные, литературные и радиовещательные? Насчет обысков, арестов и тюрем люди теперь знают – хотя далеко не все – а о том, как обыскивали совесть народа, кто им расскажет?
Когда газеты и журналы, радиовещание и кино, оплачиваемые государством и ставшие невиданным в истории средством массового формирования душ – когда они неумолчно твердят о преступлениях врагов народа, о шпионаже, о диверсии материальной и диверсии идеологической, каковой является клевета и очернительство, и когда умалчивают об угодничестве и страхе, о деспотизме и византийстве, об использовании власти для превращения ее во всевластие, об иезуитском двоедушии и о многом другом, что не является прямым нарушением Уголовного кодекса, но что ежедневно и ежечасно удобряет почву для взращивания преступности, дошедшей в конце концов до массовых убийств, – то к чему это неминуемо приводит? Человеческая совесть отступает на задний план, а ее место занимает страх перед Уголовным кодексом, который можно переделывать, как удобно власти. Происходит аберрация морали.
А теперь вернемся к нашему собственному Золя.
Писатель и дипломат чичеринской школы, видный большевик, участник Октябрьской революции, наш полпред в Болгарии, Федор Федорович Раскольников, [52]будучи срочно вызван в Москву в 1938 году, вместо Москвы отправился в Париж и опубликовал в буржуазной печати открытое письмо Сталину. Почему в буржуазной? Потому что зарубежная коммунистическая печать не позволяла себе печатать ни единого словечка против Сталина.
Перед Раскольниковым стоял выбор: либо ехать на родину, где – это он хорошо знал, ибо был не первый – его ждала та же смерть (с предварительным обливанием грязью), которая уже постигла многих партийных работников, маршалов и дипломатов, либо – бегство в Париж, что именовалось изменой родине. Он избрал второе, усугубив свое преступлением тем, что опубликовал свое открытое письмо (в свое время так же печатал Золя свое открытое письмо президенту Франции, так и Герцен эмигрировал из России, чтобы рассказать правду о ней; "Искра" тоже печаталась за границей).
Изменник ли Раскольников, скажите? Согласно ясной и недвусмысленной статье УК – да, он изменник. А согласно вашей совести?
Некоторую часть литературного наследия Ф.Ф.Раскольникова у нас недавно опубликовали. Но его открытое письмо Сталину продолжает быть неоткрытым, оно и сейчас имеется лишь в "самиздате". Для сегодняшнего читателя в нем не так много нового: мы уже знаем о расстрелах, о царившем в партии и стране страхе, о системе сыска и террора. Но ведь и в письме Золя нет ничего, что было бы неизвестно сегодняшнему читателю. Однако оно издается наравне со всеми его произведениями. Так почему Золя можно, а Раскольникова – нельзя? Ответьте заодно и на этот вопрос.
Беглец Раскольников подвергся анафеме и погиб. Но сейчас – не пора ли рассказать о его поступке, не пора ли дать ему оценку, определив без уверток, как мы относимся к нашему Золя? Даже если бы он всего-навсего спасал свою жизнь – и то следовало бы соразмерить его действия с предполагаемым вредом, который эти действия могли нанести обществу. Но разве разоблачение тирана вредит обществу? Речь ведь шла о спасении правды для потомков – правды, которую палачи всегда стремятся скрыть и которую могут раскрыть только чудом уцелевшие жертвы.
Потомкам особенно интересно узнать, как в сходных обстоятельствах вели бы себя люди творчества – писатели, историки, философы. Многие из них теперь, задним числом, утверждают с благородным негодованием, что, окажись они на месте Раскольникова, совесть не позволила бы им печататься в буржуазных газетах. А молчать о той страшной правде, которую они знали, – совесть позволяла?!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: