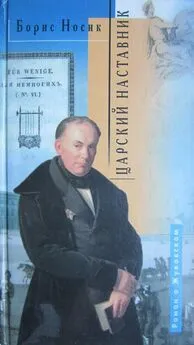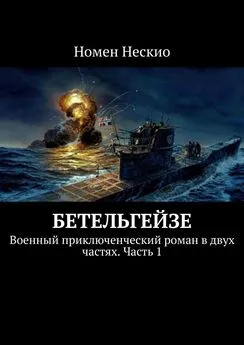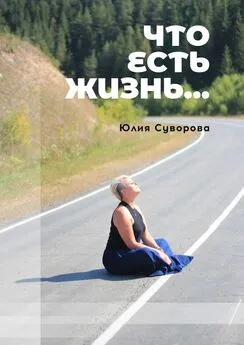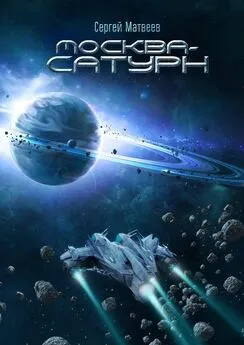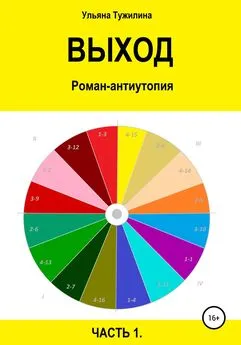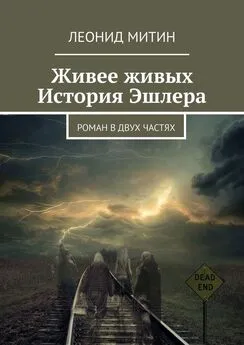Борис Носик - Царский наставник. Роман о Жуковском в двух частях с двумя послесловиями
- Название:Царский наставник. Роман о Жуковском в двух частях с двумя послесловиями
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-05-005169-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Носик - Царский наставник. Роман о Жуковском в двух частях с двумя послесловиями краткое содержание
Борис Носик, известный литератор и переводчик, посвящает свою новую книгу исследованию жизни и творчества одного из крупнейших поэтов России В. А. Жуковского. Перед читателем встает многогранный образ Жуковского — и наставника царской семьи, и общественного деятеля, и поэта, обеспокоенного не только судьбой российской поэзии, но и судьбами собратьев по перу, и просто человека, наделенного страстями в ничуть не меньшей степени, чем, например, представители эпохи Возрождения…
Обо всем этом написано живо и захватывающе интересно.
Царский наставник. Роман о Жуковском в двух частях с двумя послесловиями - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Снова возникло это напряженное молчание, среди которого Жуковский переходил от картины к картине в сопровождении Рейтерна, который боялся обронить замечание, хотя бы и вполне профессиональное, хотя бы и в виде вопроса.
Позднее, за кофеем в трактире, куда перешли все трое, разговор шел о жизни, и о смерти, и о бессмертии, и о судьбе, и об искусстве, потому что все трое были художники, а Жуковский, особенно в пору странствий, едва ли меньше был привязан к рисованию, чем к поэзии, — всей душой.
Он сказал еще в самом начале их разговора, что, покуда его служба при дворе продолжается, он имеет возможность покупать для себя любимые картины, а потому хотел бы, чтобы господин Фридрих каждый год отсылал ему по две картины в Санкт-Петербург, кстати сказать, чуть не забыл, деньги за первые две уже оставлены — в прихожей на столе, под книгой, да, да, сколько было назначено — найдете, когда вернетесь.
Они распили бутылку рейнского вина, при этом Рейтерн и Жуковский пили очень умеренно, отговариваясь нездоровьем и лечением, художник же на радостях, по случаю сказочной своей удачи, — полным стаканом, проникаясь все большим доверием к своим гостям, особенно же к этому, небом ему сегодня посланному, право, нездешнему какому-то русскому гостю.
— Мои картины надо смотреть глазами, лишенными век, — сказал Фридрих доверительно. — Вы видели спину этого человека на картине. Так вот, вы не зритель, ему сопереживающий, — вы сами этот человек…
— Колорит! Краски! — сказал Рейтерн.
— Да что краски! — воскликнул Фридрих. — Краски — это не прием, не уловка. Это голос Бога. Бог говорит с нами языком красок. Не все понимают этот язык… Но ваш русский друг услышал голос, я заметил, у меня на это верный глав…
А Жуковский, не окрепший еще после болезни и захмелевший скоро, слышал уже мелодию, старинную мелодию дружбы, которая звучала так победительно во дни пансиона и на всех арзамасских сборищах, — навек, нам дружба, до гробовой доски, до кладбищенской калитки, и дальше, и потом, ах, Андрей, ах, Карамзин…
— Давайте же, господин Фридрих! — воскликнул он вдруг в прекрасном порыве. — Давайте дальше поедем вместе, все трое — в странствие по этой стране. Как прекрасны ее горы и долы! Бастай, Заксише Швайц — Саксонская Швейцария, а далее через границу к Белой Деве и швейцарским пределам. Или в Тюрингию, на Гарц. Будем любоваться закатами и вечными снегами…
Художник недоверчиво покачал головой, сказал откровенно — как говорят с друзьями и равными по духу:
— Сие невозможно, хоть и кажется заманчивым. Никогда не мог я путешествовать вдвоем ни с кем — хоть и с другом, хотя бы и с любимой. С природой можно быть только наедине — чтоб она приняла тебя и ты принял ее в самое сердце, чтобы умилиться и вдруг заплакать, не стыдясь своих слез. На закате — когда всё тщета и жизнь ускользает, рассеивается, уходит, как туман поутру, как воды ручья, как пронзительность памяти, — и минувшего не удержать.
— Нет, для сердца минувшее вечно, — сказал Жуковский, — но, может, вы правы тоже — острота уходит, размываются очертания. Нет, не скоро, не так скоро, и все же… Память — вечерние фонари, но не утрешний свет… Представьте: длинная улица, свет фонарей и то, что меж ними, освещается тоже этим светом ярких воспоминаний…
— Вижу… — сказал Фридрих, — в этом что-то и мне близкое чудится. Попробую… Картины же будут ваши, каждый год, как бы жизнь ни сложилась. Обещаю…
После их визита к Фридриху Рейтерн уже меньше опасался показывать Жуковскому и свои работы, знал, что встретит понимание, и нисколько не удивился, что понравились рейнские виды и «Семейная комната», изображавшая скорбь семейства, которое только что понесло утрату и собралось в особой горнице у ворот кладбища, чтобы здесь вместе погрустить, вспоминая. В этих сюжетах столкновения жизни со смертью, в теме продолжения ушедшей жизни, удержанной памятью живущих, была для Жуковского особая прелесть. Они как бы останавливали всесилие смерти и ставили ей пределы, как бы подготавливали к приятию самого неприемлемого, но неизбежного.
Что касается покупки работ Рейтерна и материальной стороны его жизни (весьма в тот момент затруднительной), то Жуковский ни о чем открыто не заговаривал и только дал понять, что в возобновлении их знакомства и возникновении дружбы видит он стечение обстоятельств и волю Провидения, так что и положительные следствия этого, которые могут возникнуть, тоже угодны были Провидению, их же дело — следовать судьбе, ей не противясь. Такой взгляд избавил обоих от неловкости объяснения, а большего не было сказано и при прощании, которое все же их настигло в конце концов, потому что Рейтерну пора было возвращаться к семье в замок Виллинсгаузен, а Жуковскому ехать в Берлин и позднее на родину, возвращаясь к своим воспитательским занятиям. О них он тоже говорил в свой последний день, как и неоднократно в пути, потому что пренебрежение поэтическим трудом среди дворцовых его хлопот не могло Жуковского не тревожить и требовало оправданий.
— Я принял как честь и как труд жизни эту выпавшую мне задачу руководства Наследником, — говорил он, — потому что я увидел в ней возможности воспитания и просвещения души будущего монарха. Ибо что есть просвещение, как не многообъемлющее знание, соединенное с нравственностью? В этом занятии для меня много надежды…
Прощание их было на мосту, и оба они почувствовали при этом священное волнение, потому что дружба была добродетель и только дурной человек мог пройти равнодушно мимо возникающей дружбы. Жуковский заметил, что крупная, как брильянт, слеза пробежала по щеке однорукого и упала на рукав его камзола. Жуковский отвернулся, поглядел увлажненно на зеленые немецкие дали, махнул рукой. Они расстались.
В Берлине он должен был встретить Сашу на ее пути в Италию. После Машиной смерти (вместе с Сашей тогда сидели и плакали часами) она осталась для него самым близким существом на земле. Но рядом с глубокой привязанностью, изначальной, учительской, чуть не отцовской к ней нежностью томила где-то в глубине души и червоточинка вины. Желал ей счастья (а может, больше при этом о себе думал, о них с Машей?), познакомил с другом (хорошо ли мы друзей своих знаем?), выдал за него замуж, на приданое ей продал свое именьице — а что вышло? На муки ее сам толкнул, в руки злодею, и вот — поломанная жизнь, а теперь еще (при трех-то детях) вдобавок опасная болезнь — туберкулез. Из Эмса писал встревоженно, что главное сейчас — Саша, или Светлана (с легкой его руки часто звали ее Светланой, потому что знаменитая «Светлана» ей была посвящена «О! не знай сих страшных снов /Ты, моя Светлана…»), главное — есть ли у нее деньги на поездку, надо ей скорей ехать в тепло, в благословенную Францию, дальше на юг, в Италию (именно туда ехали умирать от этой страшной болезни те, у кого хватало денег туда добраться). Всех он теребил, тревожил — императрицу, конечно, тоже, — пока не достали денег, не тронулась она в путь вместе с тремя детьми. Не уберег он ее от беды своими стихотворными заклинаниями, известными всей России: «Будь, Создатель, ей покров! / Ни печали рана, / Ни минутной грусти тень / К ней да не коснется; / В ней душа — как ясный день; / Ах! да пронесется / Мимо — бедствия рука…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: