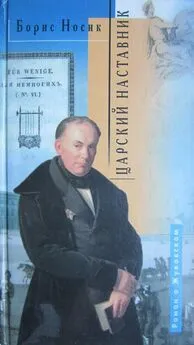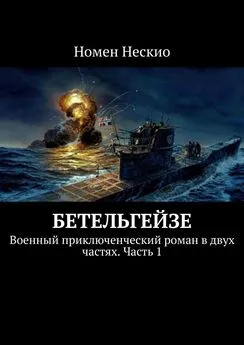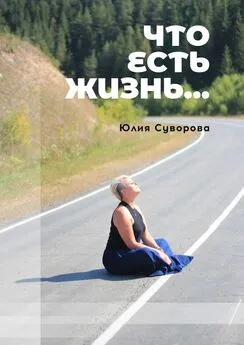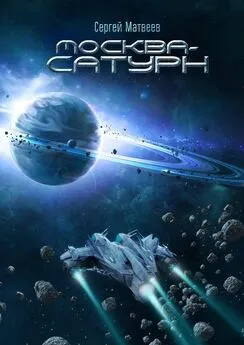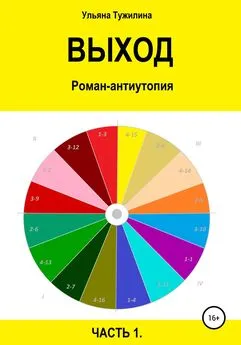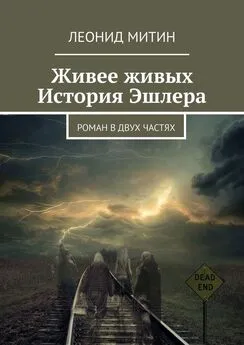Борис Носик - Царский наставник. Роман о Жуковском в двух частях с двумя послесловиями
- Название:Царский наставник. Роман о Жуковском в двух частях с двумя послесловиями
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-05-005169-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Носик - Царский наставник. Роман о Жуковском в двух частях с двумя послесловиями краткое содержание
Борис Носик, известный литератор и переводчик, посвящает свою новую книгу исследованию жизни и творчества одного из крупнейших поэтов России В. А. Жуковского. Перед читателем встает многогранный образ Жуковского — и наставника царской семьи, и общественного деятеля, и поэта, обеспокоенного не только судьбой российской поэзии, но и судьбами собратьев по перу, и просто человека, наделенного страстями в ничуть не меньшей степени, чем, например, представители эпохи Возрождения…
Обо всем этом написано живо и захватывающе интересно.
Царский наставник. Роман о Жуковском в двух частях с двумя послесловиями - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Озеро Комо, просторное в ночи, будто море, плескалось о набережную; ветерок — чуть слышный — приносил запах цветов из городского сквера, из садов старинного города, с крутого берега Комо, прохладу с недалеких Альп, с предальпийских хребтов…
— Что же страх? — сказал Тютчев. — Он есть. Он даже благотворен. А все же… И страх кончины неизбежной не свеет с дерева листа: их жизнь, как океан безбрежный, вся в настоящем разлита…
— Вы молоды еще, — сказал Жуковский.
— Вероятно. Оттого что еще жив. Вы тоже, Василий Андреевич, вы тоже. А он?.. Расскажите мне о Пушкине…
— Его погубили домашние хлопоты, мелочи жизни, нетерпеливость, неумение смириться…
— Я не об этом. И не об интриге, — сказал Тютчев. — Это рассудит время и рассудит Бог. Я о последних его минутах.
Под всевидящими звездами, среди чужих гор они говорили о том, кого любили особенной любовью, любовью поэтов. Жуковский, сбиваясь с одного на другое, волнуясь, рассказывал о муках Сверчка и о его упокоении, потом вдруг о шпионах в кабинете его, о своей отповеди Бенкендорфу. О том, как разбирал потом бумаги Сверчка.
— Ему бы разбирать мои: судьба, как поэзия, любит инверзии…
Более же всего говорил о последних часах, о тех минутах, что провел один подле мертвого — о прекрасной, гениальной руке его мертвой («Снял с пальца на память этот вот талисман…»), о лице его, умудренном и успокоенном («Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: «Что видишь?» Если б он мог заговорить, он — из немногих — сумел бы рассказать, у него хватило бы и слов и отваги»).
Потом говорил Тютчев — под ритмичный аккомпанемент ночного прибоя, в который вливалось отточенное совершенство русской речи. Он говорил, обращаясь не к Жуковскому даже, а к морю, к звездному небу, к тому, кто был теперь, наверно, звездою:
— Вражду твою пусть Тот рассудит, кто слышит пролитую кровь… Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!..
Первая любовь. Маша. Она Там. Там и Сверчок, милый, глупый, неосторожный, гениальный Сверчок… Казалось, всё Там, всё Там.
Но жизнь продолжается, и этот необыкновенно гениальный человек, раненный горем, шагает сейчас рядом и говорит о торжестве жизни в напоенной южными ароматами итальянской ночи. Слова его были и жестоки и нежны — как бесконечность, как безбрежный океан жизни, разлитый в нынешнем миге. Не о былом вздыхают розы и соловей в ночи поет… Они расстались за полночь, разволнованные встречей, благодарные чужедальнему берегу, который их свел.
В Милане астроном повел Жуковского к знаменитому писателю Мандзони, с которым познакомиться не было надежды, так как известно было, что автор «Обрученных» беден и никого не может видеть.
Мандзони принял Жуковского с простотой и любезностью — это были незабываемые часы, как бывало в старину с Карамзиным, когда чувство симпатии соединяется с чувством высокого и в душе рождается какой-то светлый порядок, гармония.
Было так легко, хорошо, и беседа текла непринужденная, но не пустая — собеседник поражал не только благородством своих тонких черт, не только благородством и выразительностью речи, но и прямодушием своим, скромностью. Возникало то же чувство прикосновения к чужому и прекрасному, какое бывало у Жуковского при чтении не очень еще понятного, чужеязычного поэтического оригинала, когда не все слова и тонкости еще ясны тебе, но душу уже охватывает волнение и ясно предвидишь волшебную минуту, когда это чужое станет совершенно своим и заговорит, запоет по-русски…
После Милана им предстояла Венеция, а еще раньше, по дороге в Венецию, — прежние венецианские владения — и Виченца, и Верона… Здоровье великого князя еще не окончательно поправилось, да и наставник его чувствовал себя не вполне твердо.
Поселились они в Венеции на берегу Канале Гранде, в тех самых комнатах, которые занимал когда-то Александр I. Из горницы Жуковского в одно огромное, до полу и с балконом, итальянское окно видна была ширь Большого Канала — очень похоже на вид из окон Зимнего в Петербурге, только на месте Биржи — церковь Сан Джорджо Маджоре, а вместо собора Петра и Павла — великолепная венецианская Санта Мариа делла Салюте. Зато вид из другого окна был единственный в своем роде, венецианский, больше ни на что в мире не похожий: небольшая площадь-пьяцетта Сан Марко, колонна с крылатым львом Святого Марка и вторая — со Святым Федором, а дальше — собор Святого Марка и Дворец дожей и широкая набережная с великолепными дворцами, которые все до одного (так уж у русских повелось видеть Италию) «суть надгробный мавзолей прошедшего».
«Надгробный памятник, — думал Жуковский, глядя в окно. — Нет, даже оно и печальнее надгробного памятника, потому что могила бережет нечто ей отданное и навеки принадлежащее. Эти же разрушающиеся великолепные здания выражают лишь отсутствие прежнего великого или прекрасного, его ненужность здешнему настоящему…»
Венеция — один из самых прекрасных городов подлунного мира, населенный великими тенями истории. Она не может не воздействовать на воображение, однако не сразу и не всякого она делает своим пленником. Иных поначалу повергает в уныние эта паутина зеленых каналов, гондолы, похожие на гробы, отсутствие зеленого луга, и гор, и раздолья, и древесных кущ, привычных для русского глаза. Жуковский впал в хандру, а с ним и великий князь. В письмах своих воспитатель дерзал оспаривать высочайшее предписание пробыть здесь два месяца, а потом ехать и Рим. Жуковский доказывал, что для поправки здоровья Венеция не годится, что хандра не лучший лекарь, да и трогать в январе через Апеннины небезопасно — не годится Италия для зимних путешествий, так что уезжать отсюда надо раньше.
Работа тоже не шла. Венеция, ее легенды и предания, выплывающие на берег с утренним туманом зеленой Адриатики, веками вдохновлявшие поэтов и живописцев, пока еще ничего не шептали душе русского. Зато отчего-то вдруг тронул до слез португалец Камоэнс — стала рождаться поэма, восторженный гимн поэзии…
Когда же Венеция начала наконец проникать им в сердце, а путешествия по лабиринту мостов и каналов, по церквям, где вот так запросто на стенах развешаны величайшие в мире картины, — когда путешествия эти стали для них потребностью, тогда вдруг поступил из Петербурга приказ двигаться к югу.
На пути у них был Рим, вечный город, продолжающий жизнь на обломках того великого Рима, который был в древности властителем полумира, где никогда не было недостатка в талантах, где творили и Рафаэль и Микеланджело, город, которым упивался небожитель Гёте, о котором теперь взахлеб писал никому еще здесь не известный русский сочинитель по фамилии Гоголь. Это был младший друг, которого Жуковский неизменно звал Гоголек — его он вводил в литературу и опекал всегда по праву старшего, по добровольно взятой на себя святой обязанности и обузы хранителя русских гениев (только ли русских? — он ведь и немецких живописцев как мог поддерживал, и малороссийского Шевченку выкупал из неволи).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: