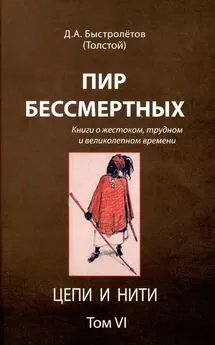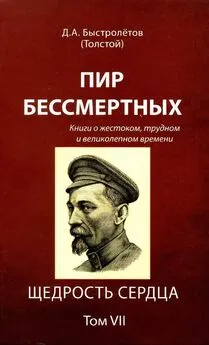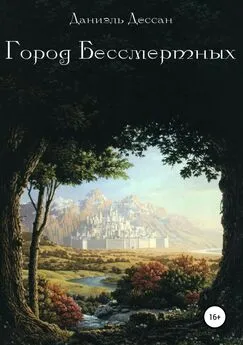Дмитрий Быстролётов - Пир бессмертных: Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. Возмездие. Том 1
- Название:Пир бессмертных: Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. Возмездие. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Крафт+
- Год:2012
- ISBN:978-5-93675-189-9 (том 1)
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быстролётов - Пир бессмертных: Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. Возмездие. Том 1 краткое содержание
Д.А. Быстролётов (граф Толстой) — моряк и путешественник, доктор права и медицины, художник и литератор, сотрудник ИНО ОГПУ — ГУГБ НКВД СССР, разведчик-нелегал-вербовщик, мастер перевоплощения.
В 1938 г. арестован, отбыл в заключении 16 лет, освобожден по болезни в 1954 г., в 1956 г. реабилитирован. Имя Быстролётова открыто внешней разведкой СССР в 1996 г.
«Пир бессмертных» относится к разделу мемуарной литературы. Это первое и полное издание книг «о трудном, жестоком и великолепном времени».
Рассказывать об авторе, или за автора, или о его произведении не имеет смысла. Автор сам расскажет о себе, о пережитом и о своем произведении. Авторский текст дан без изменений, редакторских правок и комментариев.
Пир бессмертных: Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. Возмездие. Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Хотите работать в стационаре — работайте. Хотите жить в общежитии при медсанчасти — живите. Но только приходите ко мне вечерами для одного — для разговора по-немецки о времени, когда мы были счастливы!
Одно происшествие нас окончательно сблизило. Мобилизованные желанием дожить до конца этапа, многие изувеченные люди удовлетворительно перенесли путешествие в теплушках, жару и тесноту, но по прибытии сюда нервное напряжение кончилось, их силы иссякли, и в течение первой недели в стационаре человек десять умерло от остановки сердца на почве крайнего переутомления. Доктор Минцер составлял акт по форме, указанной ему начальником, и санитары на вахте сдавали трупы надзирателям. Стояли очень жаркие дни, солнце палило нещадно. Вдруг в зону явилась какая-то комиссия, и начальство ворвалось в медсанчасть: трясущийся Минцер был арестован и ошельмован как гитлеровец, сознательно истреблявший русских заключенных. Он должен был идти под суд и получить вышку. Доказательство преступления, по мнению начальника, было налицо, а дело заключалось в следующем: трупы заключенных укладывались за вахтой на грузовик для дальнейшей доставки за город и захоронения, но выписать наряд всегда пьяный начальник забывал, трупы больше недели лежали на жаре и стали разлагаться, а собаки по ночам прыгали в кузов и пожирали тела. Местные жители обратились в милицию и горсовет и гражданские власти обнаружили этот постыдный лагерный грузовик за углом забора. Начальнику грозила неприятность, но он не растерялся: нашел вредителя. Это было в те времена естественным и общепринятым выходом из положения. Бедный Минцер совсем потерял голову, поник, начал заикаться и замолчал. Ноги у него подкосились, он даже был вынужден сесть на землю. Вот тут-то и выступил я и, несмотря на грубый окрик начальника, стал в свою очередь кричать, что трупы у ворот сдавались дежурным надзирателям, а Минцер пропуска за зону не имеет и никогда грузовика не видел. При чем здесь он?! Не будь комиссии из горсовета, влетело бы и Минцеру, и мне, суд нашел бы, что здесь один шпион бросился выручать другого. Но комиссия сейчас же поддержала меня. Минцера отпустили, я мгновенно исчез за углом ближайшего барака, и все успокоилось. Но когда восьмого августа этап выстроился перед воротами и медленно пополз из загона, доктор Минцер, которого по инвалидности не взяли, в последний момент вдруг с рыданиями бросился мне на шею и сунул в руки маленький кусочек душистого мыла.
— Последнее, что у меня осталось с Уландштрассе… Отрываю от сердца… Возьмите… На… память…
Старика оттащили и швырнули в сторону, а я отправился на Крайний Север с кусочком берлинского мыла в кармане. Я не знал, что судьба нас сведет еще раз и при очень трагических обстоятельствах.
За зоной, перед длинным рядом избушек, стоявших вдоль дороги, нас раздели догола и долго трясли наше тряпье и мешки. К вечеру все было закончено: этап погрузили в огромную плавучую пристань, которую отправляли вниз по течению, кажется, в Усть-порт, а по дороге, в Дудинке, должны были сгрузить нас для доставки в Норильск по узкоколейной железной дороге. К ночи буксир дал гудок, и мы тронулись в путь.
Я попал в основное помещение — зал ожидания; Пашу Красного увели куда-то наверх; Утемисов стал врачом нашего этапного стационара. Медведев улегся рядом со мной. По другую сторону лег тощий цыганского вида фельдшер, маленький бытовой срок которого должен был окончиться после нашего прибытия на место: его везли, очевидно, чтобы заставить потом остаться работать в лагерной системе в качестве вольнонаемного. Каждый знает, какие глаза бывают у провинившейся собаки, когда она поджимает хвост, опускает уши и ползет на брюхе к хозяину, держащему в руке хлыст. Вот такие глаза были у моего тощего соседа: он был пьяницей и не мог говорить о чем-нибудь другом, кроме алкоголя. Когда позднее я от скуки предложил своим соседям рассказать о самом счастливом дне своей жизни, то человек с собачьими глазами долго морщил лоб, видимо перебирая все случаи своей невеселой жизни, но потом его лицо вдруг расплылось в блаженную улыбку, глаза задорно блеснули, и он бойко рассказал, как в девятнадцатом белые доставили на станцию, где он служил фельдшером, цистерну спирта, и как после прихода махновцев цистерну открыли и стали ведрами разбирать содержимое. Два человека полезли внутрь и утонули в спирте, человек полтораста валялись вокруг мертвецки пьяными, и восемь потом скончались в больнице! Обладатель собачьих глаз был в восторге. Он, как говорится, переживал. Степа долго кряхтел, тоже морщил лоб и не мог вспомнить ничего подходящего. Однако начал невесело:
— Один из самых несчастных дней моей жизни был тот, когда я мальчиком-подростком узнал, что колчаковцы сожгли моего отца в паровозной топке. Соответственным было счастье стрелять им в спину при их беспорядочном бегстве. С годами эти два сильных переживания померкли: жизнь идет вперед, новые события заслоняют собой старые. Следующим днем большого счастья явился день моего поступления в партию. Я тогда ясно вспомнил отца, паровозную топку и покачивание тяжелой винтовки в моих еще слабых руках, когда я через забор стрелял в белых. Я твердо взял в руки красную книжечку и мысленно сказал себе: «Это оружие дальнобойней той винтовки: теперь я буду бить без промаха, и мои пули настигнут иных врагов». Ну-с, — Степа сделал паузу, — и они достигли. Но я не стал от этого счастливее.
Он закрыл глаза и опустил голову на грудь. Но я знал, что продолжение будет, и спокойно молчал. Куда спешить?
Наконец Степан собрался с силами.
— Дай мне высказаться, Дима, и не перебивай. Скажешь свое мнение потом. Слушай! Человек по природе своей эгоист и в этом причина нашего несчастья. Ведь уже давно мы наблюдаем вокруг себя нарушения законности. Не так ли? Ну, вспомни: самоуправство, ошибки в руководстве всей политикой партии и государства… Ленинский курс на убеждение и показ сменился сталинским курсом на насилие и приказ. Длинный путь к прочной победе без потерь мы отвергли и выбрали короткий путь к неполной победе с такими ужасными потерями, которые ставят под сомнение ценность самой победы. Наша политика перестала быть разумной и расчетливой. Уже голод в начале тридцатых годов указал на это. Как партийный вожак в большом Наркомате, я имел доступ ко всей информации — и нашей секретной, и к сводкам сообщений иностранной прессы. И что же? Лично меня чужие беды не касались, я брезгливо морщился и объяснял народное горе исторической необходимостью, логикой борьбы за довершение социальной перестройки, досадными, но неизбежными издержками революции или попросту усушкой-утруской недоброкачественного социального материала. Я стал партбюрократом. Оторвался от народа. Совесть моя спала, и в приятном сне я безответственно поднимал руку «за». Тетка рассказывала о пустых станицах на Дону, о голодающих в Ростове, брат из Сибири писал о неслыханной волне высланных и заключенных, о высокой смертности в местах принудительного поселения. А я в Москве увлекался боксом и Чайковским: я не деревенский мужик, я — потомственный железнодорожник, меня это не касалось.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: