Антон Деникин - Путь русского офицера
- Название:Путь русского офицера
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-69623-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Антон Деникин - Путь русского офицера краткое содержание
Путь русского офицера – это служба или судьба? Для Антона Ивановича Деникина (1872—1947) это был главный, непоколебимый, непреложный закон: служить Родине, защищать Россию, всегда, при любых обстоятельствах, как бы и куда бы ни повернула линия жизни.
Но каково это – любить Россию? И что означают для отдельного человека долг и патриотизм? Деникин иллюзий по этому поводу не испытывал и знал: любить Родину – это работа. И такая работа лавров обычно не приносит: «Я знаю, что я делаю самую неблагодарную работу и что меня будут поносить и, может быть, проклинать… Но кто-то должен эту работу сделать».
Для некоторых может стать откровением, что генерал царской армии Антон Иванович Деникин с давних пор был противником самодержавия. Но за что же он тогда боролся с большевиками? За власть? Безусловно – нет. Он делал свою «работу» – устанавливал диктатуру – но при этом считал ее временным, пусть и болезненным, однако необходимым переходом к демократическому строю. Который, как считал Антон Иванович, есть единственно возможный путь для России.
Военный и организаторский гений Деникина неоспорим. Его называют «одним из самых результативных генералов русской армии в Первой мировой войне», пишут, что он «добился наибольших военных и политических результатов среди всех руководителей Белого движения». И наилучшей похвалы он удостоился от своего самого заклятого врага – Ленина. В 1919-м вождь РКП(б) обратился ко всем организациям партии с письмом под лозунгом «Все на борьбу с Деникиным!», в котором называл деникинское наступление «самым критическим моментом социалистической революции».
Деникин всегда считал борьбу с большевизмом своим гражданским долгом: и когда возглавлял Белое движение, и когда решил бороться с большевизмом «не оружием, а словом» – это был стержень его жизни. Однако его борьба не была слепой. И потому, когда Франция была оккупирована гитлеровцами, он категорически отверг предложение ведомства Геббельса о сотрудничестве.
Последними его словами, обращенными к жене, были: «Оставляю тебе и дочери имя без пятен». Сказать так в конце жизни – великая человеческая заслуга и единственная привилегия воина. Антон Иванович Деникин имел на нее полное право…
Литературное и мемуарное наследие Деникина обширно и представляет огромный интерес, ведь он был не просто свидетелем событий, изменивших историю Россию, но и во многом определил ход этих событий. В это издание вошли автобиографическая повесть «Путь русского офицера» и избранные главы из фундаментального труда Деникина «Очерки русской смуты», посвященного двум русским революциям 1917 года, Гражданской войне, становлению и борьбе Белого движения.
Электронная публикация трудов А. И. Деникина включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие полководцы» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями; текст сопровождают сотни фотографий, иллюстраций из российских и зарубежных периодических изданий описываемого времени, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Прекрасная печать, оригинальное оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.
Путь русского офицера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Столыпин искренно искал сотрудничества с его правительством общественных элементов, но встретил непонимание и отказ: со стороны радикальной демократии, требовавшей перехода всей власти к ней; со стороны умеренно правой, заявлявшей, что правительство бессильно, будучи связано «закулисными темными силами»…
Слева Столыпина считали реакционером, справа (придворные круги, правый сектор Государственного совета, объединенное дворянство) – опасным революционером. Есть просто что-то провиденциальное в том факте, что Столыпина убил член революционной боевой организации, состоявший одновременно на службе в Охранном отделении (русская секретная полиция).
В те дни не только среди киевлян, но и по всей России ходили слухи, что Столыпин «убит охранкой». Доказательств этому и поныне нет, по крайней мере, я никогда не встречал в печати. Но нельзя не признаться, что со стороны Охранной полиции проявлена была в этом деле преступная небрежность, граничившая с попустительством…
Столыпин, стремившийся всемерно поддержать уже колеблющийся трон, в конце своей карьеры навлек на себя нерасположение государя, и если бы не был убит, то был бы в ближайшее время устранен им от власти.
Умер Столыпин в ночь с 5 на 6 сентября. Я был в этот день в Житомире и пошел на панихиду, которую служил Волынский архиепископ Антоний. Это человек незаурядный, высокообразованный, но принадлежавший к крайне правому флангу русской общественности и, будучи членом Святейшего Синода, ведший в Петербурге активную политику. Впоследствии, в эмиграции, Антоний, в сане митрополита, возглавил часть эмигрантской православной церкви, так называемой «Карловацкой юрисдикции», которая оказала наибольшее сопротивление подчинению американского православия советской патриархии, но вместе с тем сохранила реакционные политические тенденции.
Архиепископ Антоний перед панихидой сказал слово. Упрекнул покойного, что тот проводил «слишком левую политику и не оправдал доверия государя». Единственно, мол, что примиряет с ним, это тот факт, что, будучи смертельно раненным, Столыпин, «сознав свою ошибку», повернулся к царской ложе и осенил ее крестным знамением. Закончил свое слово архиепископ фразой: «Помолимся же, чтобы Господь простил ему его прегрешения».
Будучи высокого мнения об уме владыки, я был потрясен, что это все, что он нашел нужным сказать о большом государственном деятеле, пытавшемся спасти от крушения российский государственный корабль, затопляемый волнами, бившими и слева, и справа…
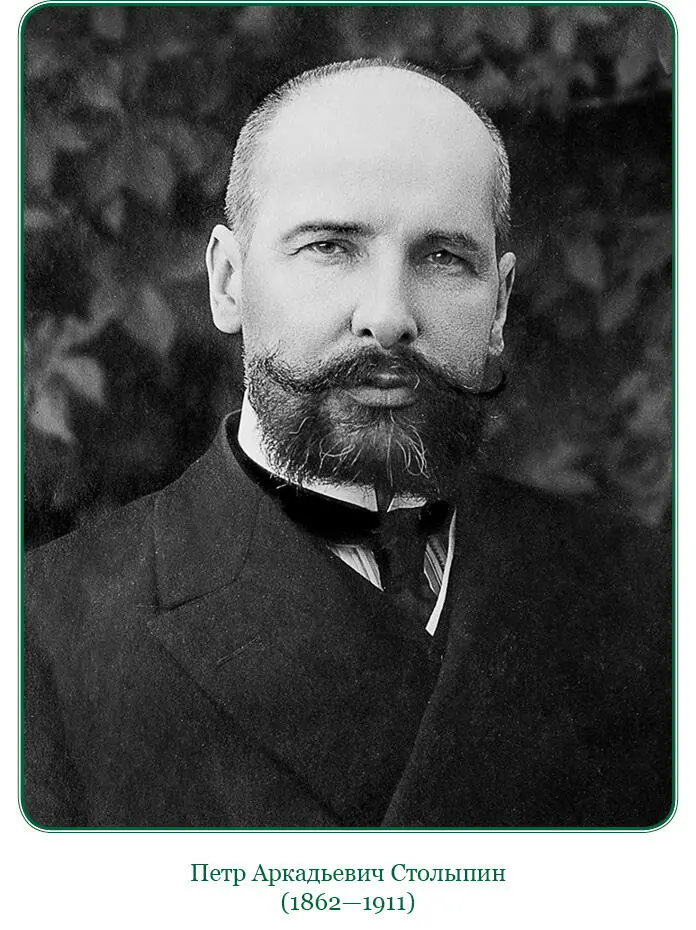
Годы 1912 и 1913 проходили в тревожной обстановке. Балканские славяне в победоносной борьбе разрубали тогда последние оковы, наложенные на них Турцией, а Австро-Венгрия явно готовила свою армию, чтобы вновь умалить результаты их побед. Летом 1912 года Австрия пододвинула шесть корпусов к границам Сербии и три корпуса мобилизовала в пограничной с Россией Галиции.
Напряжение росло, и был момент, когда мой полк получил секретное распоряжение, согласно программе первого дня мобилизации, выслать отряды для занятия и охраны важнейших пунктов Юго-Западной железной дороги в направлении на Львов. Там они простояли в полной боевой готовности несколько недель.
Еще с 1908 года, после аннексии Боснии и Герцеговины, шли в Австро-Венгрии полным ходом приготовления к войне против Сербии и естественной ее покровительницы России. Военная партия из немецких и мадьярских кругов нашей соседки словом, пером и делом работала над созданием в стране враждебного России настроения, в особенности подогревая и провоцируя вожделения поляков и украинцев. Воззвания, призывающие «в предстоящем столкновении» стать на сторону Австро-Венгрии, наводняли, правда, без видимого успеха, наши приграничные губернии, особенно Волынскую и Подольскую.
Словом, соседняя «дружественная» страна явно бряцала оружием, а мы, повторяя свою ошибку периода перед Японской войной, молчали.
Снова, как в семидесятых годах, волна сочувствия балканским славянам пронеслась по России, далеко выходя из пределов славянофильских кругов, захватывая широко русских людей. Опасаясь, что резкие проявления общественного негодования против Австрии увеличат дипломатические затруднения, правительство приняло ряд сдерживающих мер, запрещая лекции, собрания, манифестации, посвященные балканским событиям, влияя на прессу внушениями и карами.
Иногда эти меры принимали возмутительную форму. Так, в Петербурге конные жандармы разгоняли сочувственную манифестацию, направлявшуюся к сербскому и болгарскому посольствам. В нашей далекой провинции полиция запрещала исполнения гимнов балканских славян и срывала их национальные флажки, украшавшие эстраду благотворительного концерта в пользу Красного Креста славянских стран, и т. д.
Незадолго до войны, из побуждений, конечно, миролюбия, был отдан высочайший приказ, строго воспрещающий воинским чинам вести разговоры на современные политические темы (балканский вопрос, австро-сербская распря, пангерманизм и т. д.). Накануне уже неизбежной отечественной войны наши власти старательно избегали возбуждения в народе здорового патриотизма, разъяснения целей, причин и задач возможного конфликта, ознакомления войск со славянским вопросом и вековой борьбой нашей с германизмом.
Признаться, я, как и многие другие, не исполнил приказа и подготовлял соответственно настроение Архангелогородского полка. А в военной печати выступил против приказа с горячей статьей на тему: «Не угашайте духа» [82]. Я писал: «Русская дипломатия в секретных лабораториях, с наглухо закрытыми от взоров русского общества ставнями, варит политическое месиво, которое будет расхлебывать армия… Армия имеет основание с некоторым недоверием относиться к тому ведомству, которое систематически, на протяжении веков, ставило стратегию в невыносимые условия и обесценивало затем результаты побед»…
Указав на ряд административных мер, принимаемых правительством и цензурой, «чтобы понизить подъем настроения страны и затушить тот драгоценный порыв, который является первейшим импульсом и залогом победы»,– закончил:
«Не надо шовинизма, не надо бряцания оружием. Но необходимо твердое и ясное понимание обществом направления русской государственной политики и подъема духа в народе и армии. Духа не угашайте!»
23 марта 1914 года я был назначен исполняющим должность генерала для поручений при командующем войсками Киевского округа. Простился с полком сердечно и с грустью, ибо успел привязаться к нему, и уехал в Киев. А 21 июня произведен был «за отличия по службе» в генерал-майоры, с утверждением в должности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:










