Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото
- Название:Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-59497-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото краткое содержание
Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя Петра Кузьмича Козлова (1863—1935).
Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.
Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.
И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.
Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.
Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.
В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.
Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.
Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Томительно однообразно и тяжело передвижение в пустыне летом. Еще ночью чувствуешь себя удовлетворительно, но чуть блеснут лучи солнца, как начинается настоящий жар, притупляющий всякую энергию. Даже прославленные «корабли пустыни» и те тяжело бредут в жаркое время. Чаще и чаще посматриваешь на часы, напряженнее вглядываешься в даль, ищешь крохотного зеленого клочка, долженствующего приютить караван у колодца. Расстояния в пустыне очень обманчивы: со стоянки при урочище Байшинтэ мы ясно различали общие контуры придорожного обо Бомбото и недалекой казалась возвышенность Шангын-далай; но увалы сменялись увалами, открывались все новые пространства пустынной местности, испещренной выходами конгломератов и бурого песчаника, а намеченные пункты не приближались; только переночевав в урочище Тарбагай [150]и сделав еще трудный переход в сорок две версты, мы наконец достигли горки Шангын-далай, где оказался хороший колодец. В окрестности колодца, там и сям, можно видеть: Phragmites communis, Caragana Korshinskii, Stellaria gypsophiloides, Myricaria germanica и немногие другие растения.
В первой половине песков нас сопровождало знойное солнце, давшее почувствовать всю «прелесть» пустыни. Песок накалялся до +70°С, и через тонкую подошву сапог прожигал ноги; бедные собаки страдали пуще нас, несмотря на большую заботливость и предусмотрительность фельдфебеля Иванова, который через каждые полчаса отвязывал от вьюка корытце и бережно наливал Сигналу [151]воду. Собаки отлично знали это и к известному времени без зова подбегали к передовому эшелону, вопросительно глядя на Иванова. Между тем песчаные барханы громоздятся один на другой все выше. Верблюды натягивают бурундуки – поводья, тяжело дышат; вереница этих гигантов то поднимется на вершину бархана, то спустится к его основанию. По песчаной поверхности мягко ступает широкая лапа верблюда; ее своеобразный шорох едва слышен, будучи заглушаем тяжелым, учащенным дыханием животных.
Поднимешься на высокий бархан, и опять прежняя картина – всюду песок, песок и песок. Во рту давно пересохло: сухость пустынного воздуха крайняя.
Девятого июля, в мрачное томное утро, мы выступили особенно рано. Венера поднялась высоко, в теплом воздухе кружились тысячи насекомых, мелькали летучие мыши. Нам предстояло пересечь горы Дэрэстэнхотул, входящие, вероятно, в состав массива Лоцзы-шань, что по-китайски значит «Гора-мул». Подъем на перевал растянут на шесть верст. С вершины в юго-западном направлении, нам открылась долина, подернутая пыльной вуалью. В отдалении виднелись белые постройки монастыря Цокто-курэ; сыпучие пески обступали его со всех сторон, и только благодаря дождливой погоде с запада и юга блестели полоски болотистых вод, окаймленных зеленой полукустарниковой пустынной растительностью.
Караван остановился не доходя до монастыря, при колодце Баин-худук, где у пустой колоды, понуря головы, стояло несколько ослов, тщетно ожидавших утоления жажды. По соседству кочевали монголы со своими стадами, и близость этого населения сказывалась очень печальным явлением: монголы не умели содержать в чистоте единственный источник жизни – Баин-худук, издававший крайне неприятный запах вследствие обильного присутствия в нем выделений домашних животных.
При колодце Баин-худук мы нашли только Plantago mongolica и Reaumuria trigyna.
В сумерках в окрестности колодца прыгали резвые тушканчики (Dipus), которых гнали перед собой возвращавшиеся с пастьбы стада баранов.
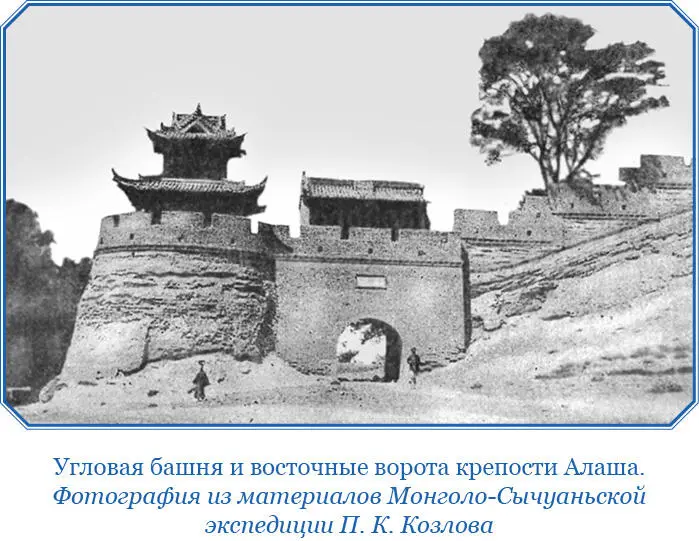
Пески становились все более и более внушительными. Теперь грядовые барханы, расположенные в меридиональном направлении, заполнили собою весь видимый южный горизонт. Верблюды медленно шагали по рыхлому грунту, осиливая кроме того небольшой подъем; местами тропа пересекала пространства твердой землистой поверхности, где выступали обнажения светлого конгломерата, и движение несколько облегчалось. Лишь изредка ярко-желтый сыпучий песок расступался, давая место нешироким впадинам с жалкими лужами горько-соленой воды, окаймленной кустами хармыка и кое-какой травянистой растительностью.
В одной из таких долин, называемой Ширигин-долон [152],экспедиция отдыхала целые сутки; томимые жарой и жаждой, мы с жадностью уничтожали созревшие ягоды хармыка и по многу раз купались в одном из маленьких озерков, напрасно ища прохлады. Вместе с озерками появилась растительная и животная жизнь: помимо отмеченного Nitraria Schoben, здесь пышно произрастали: Scorzonera divaricata, Astragalus melilotoides, Echinops Gmelini, Myricaria platyphylla, Lactuca и Sisymbrium; а из животной жизни, в частности птиц, по водной поверхности привольно плавали турпаны, пеганки; по отмелям разгуливали кулички, улиты – черныш прудовый, стайки светлосерых зуйков, пестрозобых песочников и одинокая щеврица; в соседних камышах гнездился камышовый лунь (Circus spilonotus), а невдалеке парил мохноногий сарыч. В болотистых озерках были замечены головастики, вместе с лягушками (Rana amurensis [Rana chensinensis – азиатская лягушка]) поступившие в нашу коллекцию.
Вторую часть пустыни – пески Тэнгэри [153]– экспедиции посчастливилось перешагнуть в небольшое ненастье: с севера набежала мрачная грозная туча, полил дождь, и воздух приятно освежился.
По мере продвижения на юго-запад поперечные увалы увеличивались в размерах и на крайнем юго-востоке вырастали целые гряды горок, одну из которых мы назвали Хон-гор; по вершинам красовались обо из пестрых конгломератов, снабженные плитами с буддийскими молитвенными формулами – мани. Среди логов извивались еле заметные тропинки кочевников и реже – дороги; по словам проводников, одна из этих дорог вела от небольшого китайского города Дэрэсун-Хото на востоке к соленому бассейну Цаган-дабасу на западе. По сторонам часто приходилось наблюдать трупы домашних животных – верблюдов, лошадей и баранов, погибших от сильных ливней, понизивших температуру. По моим многочисленным наблюдениям, монголы, так же как и их скот, способны переносить самый палящий зной, но зато как те, так и другие легко заболевают от холода и сырости. Несмотря на недостаток влаги и бесплодие песков Тэнгэри, кочевники почти повсеместно, по крайней мере на нашем пути, держат наряду с верблюдами и лошадей. Этот факт вполне подтверждает мое убеждение, вынесенное еще из прошлого путешествия, об отсутствии в Монгольской пустыне больших безводных пространств.
Приближалась и южная граница сплошных сыпучих песков: действительно, оставался последний довольно солидный рукав пустыни Тэнгэри, и мы вне опасности; к тому же перепадавший почти ежедневно дождь поддерживал наши силы. Переночевав в тридцати верстах к юго-западу от Ширигин-долона под открытым небом, среди песчано-глинистых бугров, покрытых хармыком, экспедиция подошла к колодцу Ихэтунгун-худук, где следовало запастись водою для предстоящего перехода. Здесь, между прочим, была поймана степная гадюка (Coluver dione [Elaphe dione – узорчатый полоз]), отличавшаяся злобным нравом; эта хонин-могой, или «баранья змея», как ее называли монголы, часто кусает животных, в особенности баранов, после чего в течение полутора или двух недель места укусов болят и опухают. Недалеко от колодца, вдоль круто ниспадавших песчаных увалов, раскинулась отличная луговая долина; среди изумрудной зелени паслись стада монгольского скота.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:










