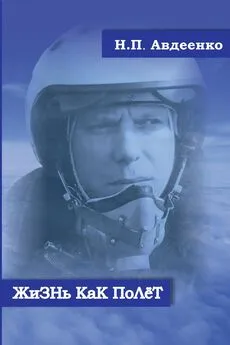Степан Микоян - Воспоминания военного летчика-испытателя
- Название:Воспоминания военного летчика-испытателя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-227-04544-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Степан Микоян - Воспоминания военного летчика-испытателя краткое содержание
Степан Анастасович Микоян, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, старший сын Анастаса Ивановича Микояна, выдающегося государственного деятеля, хорошо известен в авиационных кругах нашей страны и за рубежом. Ему довелось испытывать или пилотировать все типы отечественных самолетов второй половины XX века – от легких спортивных машин до тяжелых ракетоносцев. Но самой большой привязанностью всегда оставались истребители. Он дал путевку в небо всемирно известным самолетам конструкции Микояна-Гуревича и Сухого.
Воспоминания Степана Микояна – яркий исторический очерк о советской истребительной авиации. Автор доверительно и откровенно рассказывает о буднях нелегкой и опасной работы летчиков-испытателей.
Воспоминания военного летчика-испытателя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Летчик прицеливается по цели по оптическому прицелу и в наушниках слышит ровный звуковой фон от головки, но который изменяется, когда в ее поле зрения попадает источник тепла. Это значит, что головка захватила цель и ракету можно пускать. Изменение звука от головки при захвате ею цели человеческое ухо слышит даже при слабом тепловом излучении, в то время как другие ракеты должны получать от цели достаточно сильный сигнал, чтобы он был выделен приемником на фоне шума и на приборной доске зажглась сигнальная лампочка.
Мне довелось принять участие в самых первых испытаниях этих ракет, которые были установлены на наши два самолета СМ-12, а позже и на МиГ-21. Испытания начались осенью 1959 года. Вначале мы пускали К-13 по парашютным мишеням – осветительным авиабомбам, а потом по радиоуправляемым самолетам-мишеням Ил-28.
Я первым сбил такую мишень при атаке под большим ракурсом. Начинал атаку почти под 90 градусов к самолету-мишени, а к моменту пуска угол составлял около 50 градусов. Ракета выполнила энергичный маневр, настигла цель и разорвалась вблизи ее хвоста. Мишень перешла в пикирование и разбилась.
Потом мы провели испытания по поражению высотной цели – беспилотного самолета МиГ-19. Мишень летела на высоте 16 000 метров на сверхзвуковой скорости, ее атаковали с небольшим интервалом три самолета – Эдуард Князев на СМ-12, Василий Котлов и я – на МиГ-21Ф. Увы, сбить ее нам не удалось – сигнал от взрывателя поступал на боевую часть со слишком малой задержкой, что из-за большой скорости цели приводило к разрыву ракеты в нескольких метрах за ее хвостом.
Я шел последним и, пустив с таким же результатом боевые ракеты, близко пристроился к мишени МиГ-19. Больше атаковать было некому. Поразительное было зрелище: красавец самолет в густо-голубом небе с раскаленной струей форсажа за хвостом, а в кабине никого нет! Пора было возвращаться, я с сожалением отошел от него, а с командного пункта по радио дали на мишень команду «ликвидация» – выключили двигатели и отклонили рули на крен до упора. Я почувствовал неожиданное чувство жалости к этому самолету, как к живому существу.
Взрыватели доработали, увеличив задержку, и такую мишень мы успешно сбили. Надо пояснить, что на испытаниях обычно первые самолеты, атакующие цель, имеют ракеты без боевой части, чтобы сохранить мишень и пустить следующие ракеты, получив больше информации. Ракета необязательно должна попасть в цель, достаточно, чтобы «промах» – расстояние, на котором ракета проходит около цели, – был в пределах радиуса поражения боевой части ракеты. Величина промаха и факт срабатывания взрывателя фиксируются наземными кинотеодолитными станциями. Иногда пускают ракеты с телеметрией, а мишень бывает оборудована аппаратурой замера промаха.
С последнего атакующего самолета пускают боевые ракеты. Таким образом, по одной мишени обычно пускают до пяти-шести ракет. Однако бывают случаи прямого попадания одной из первых ракет, и остальные, к огорчению испытателей, уже пускать не по чему – мишень разрушается.
При испытаниях самолета МиГ-21ПФ в составе комплекса перехвата я, вместе с Леонидом Петериным и двумя другими, был ведущим летчиком. В одном из полетов я допустил досадную оплошность, о которой до сих пор вспоминаю с сожалением. Мне довелось, так же как до этого на Су-9, первым лететь на перехват цели с наведением системой «Воздух-1». Я выполнял команды, передаваемые по радиолинии на указатели курса, скорости и высоты, без голосовых команд по радио. Через некоторое время с земли запросили: «Какой у тебя курс?» Услышав мой ответ, после некоторой паузы дали команду: «Отбой, возвращайся на точку». Я в недоумении спросил почему. «У тебя курс неправильный». Я понял, в чем дело. Согласно заданию, кнопку согласования гирокомпаса с магнитным компасом надо было нажать на ВПП перед взлетом, поэтому я его не стал согласовывать перед выруливанием со стоянки, как делал обычно. А на взлетной полосе об этом забыл. В результате мой самолет наводился не на цель, а далеко в сторону от нее. Задание было сорвано, мне пришлось повторять полет. Я очень переживал, тем более что считался уже специалистом по перехватам, а также потому, что со стороны промышленности руководителем испытаний был мой брат Ваня – ведущий конструктор по этому самолету (коллеги его называли Вано).
Все знают, что реактивные военные самолеты для обеспечения спасения членов экипажа снабжены катапультируемыми креслами, которые в случае угрозы жизни выстреливаются из самолета с помощью порохового заряда или ракетного двигателя. (Впервые катапультируемое кресло было разработано в Германии во время войны.) Механизм кресла связан блокировкой с фонарем (колпаком) кабины – пока фонарь не сбросится, катапульта не сработает.
Однако не исключено, что механизм сброса фонаря может отказать, а в боевой обстановке может быть перебит тросик, которым слетающий фонарь освобождает блокировку. Тогда летчик лишается возможности покинуть самолет. Я считал, что у летчика всегда должен оставаться последний, может быть не очень надежный, но шанс на спасение – в случае несброса фонаря он должен иметь возможность катапультироваться сквозь фонарь. Нам был известен случай, происшедший во время войны в Корее, когда с подбитого МиГ-15 не сбросился фонарь, летчик воспользовался имевшейся на этом самолете ручкой разблокировки и катапультировался. Посередине фонаря кабины самолета МиГ-15 проходит стальная рамка остекления, но заголовник кресла ее пробил, и летчик с креслом прошел сквозь фонарь. Он остался жив, повредив только лицо, хотя тогда еще не было защитных шлемов – он был в кожаном.
На самолете МиГ-19 установили катапультируемое кресло новой конструкции. Оно приводилось в действие вытягиванием шторки из заголовника, которая одновременно защищала лицо летчика от скоростного напора воздуха при покидании на большой скорости. Однако механизма разблокировки фонаря это кресло не имело. При рассмотрении этой системы на заводе ОКБ Микояна я, тогда рядовой и сравнительно молодой испытатель, выставил требование обеспечить разблокировку. Фирма долго сопротивлялась, но потом установили сбоку на заголовнике кресла крючок, потянув за который можно было снять блокировку. Дотягиваться до него было неудобно, но хоть так.
Справедливость требования была подтверждена позже двумя печальными случаями. Летчик самолета МиГ-19 с аэродрома Кубинка пытался катапультироваться из потерявшего управляемость самолета, но фонарь не сошел. Летчик разбился, а по позе тела в разбитой кабине было видно, что его рука была поднята в сторону крючка разблокировки. Видимо, вспомнив о разблокировке в последний момент, он потянулся к крючку, но не успел нащупать и вытянуть его.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: