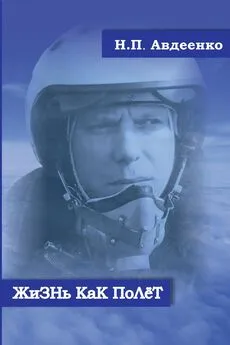Степан Микоян - Воспоминания военного летчика-испытателя
- Название:Воспоминания военного летчика-испытателя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-227-04544-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Степан Микоян - Воспоминания военного летчика-испытателя краткое содержание
Степан Анастасович Микоян, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, старший сын Анастаса Ивановича Микояна, выдающегося государственного деятеля, хорошо известен в авиационных кругах нашей страны и за рубежом. Ему довелось испытывать или пилотировать все типы отечественных самолетов второй половины XX века – от легких спортивных машин до тяжелых ракетоносцев. Но самой большой привязанностью всегда оставались истребители. Он дал путевку в небо всемирно известным самолетам конструкции Микояна-Гуревича и Сухого.
Воспоминания Степана Микояна – яркий исторический очерк о советской истребительной авиации. Автор доверительно и откровенно рассказывает о буднях нелегкой и опасной работы летчиков-испытателей.
Воспоминания военного летчика-испытателя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Инженеров отдела мы называли «самолетчиками» – в отличие от инженеров по специальностям, – это были инженеры широкого профиля, знающие самолет в комплексе со всеми системами (есть некоторая аналогия с врачом-терапевтом). На ведущих инженерах – руководителях бригады – лежит ответственность за разработку и выполнение программы испытаний, сроки проведения работ, составление заданий на полеты, организацию полетов и безопасность их выполнения, взаимодействие инженеров по специальностям, формулирование выводов и написание акта по испытаниям.
Акт по испытаниям составляется по материалам всех специалистов, входящих в бригаду. В разделе акта «Выводы» обязательно должны быть ответы на все пункты программы испытаний. Любой отказ, недостаток или особенность, даже самые мелкие или устраненные в процессе испытаний, должны быть отмечены в акте. Обычно составляются три перечня недостатков – в первом приводятся недостатки, влияющие на безопасность полетов, которые необходимо устранить до начала полетов строевых летчиков, во втором – те, устранение которых допускается в процессе серийного выпуска. В третий перечень включаются рекомендации испытателей по улучшению техники.
Важной частью акта является летная оценка, которую пишут ведущие летчики, обсуждают с летчиками облета, и все они ее подписывают. (К сожалению, бывало, хотя и редко, что летную оценку писал инженер, а летчики только редактировали.) Ни один начальник не может требовать изменения летной оценки (хотя может посоветовать), однако попытки давления иногда бывали.
И наконец, пишется «Заключение» акта, определяющее возможность принятия самолета на вооружение, которое подписывают начальники управления и института. Часто к этому моменту серийный завод уже выпускает самолеты, но без такого государственного акта, утвержденного главнокомандующим ВВС, самолет (как и любой другой образец техники) не может эксплуатироваться в строевой части, на нем могут летать только летчики-испытатели. В отдельных случаях, по специальному разрешению, самолет в процессе испытаний облетывают высшие командиры или инспекторы того рода авиации, для которого он предназначен. Бывало, что до окончания испытаний выпускалось «Предварительное заключение», дающее право полетов строевым летчикам с некоторыми ограничениями по пилотированию.
Прекрасной школой для молодых летчиков и инженеров было участие в утренних разборах, с которых начинался тогда рабочий день в отделе. Присутствовали все летчики и инженеры отдела, а часто и инженеры из других подразделений института, входившие в испытательные бригады. Польза от таких разборов была неоценимая. Как я говорил, летчики, не имевшие высшего образования, становились «немного инженерами», а инженеры «немного летчиками» – учились понимать профессиональную летную специфику, что для руководителей испытательных бригад очень важно (хотя некоторые из них в прошлом сами были летчиками).
Надо сказать, что структура управления и отделов в 70-х годах была изменена, летчики организационно были отделены от инженерных отделов, и ежедневные планерки проводились у летчиков и инженеров, к сожалению, раздельно.
Я получил удостоверение личности с отметкой: «Летчик-испытатель отдела испытаний самолетов-истребителей 1-го управления ГК НИИ ВВС». Как приятно было это читать! (Вскоре это наименование стало секретным.)
В августе и первой половине сентября 1951 года я выполнил несколько тренировочных полетов. Во время одного из них мне уже пришлось, как говорят, «соображать» – искать выход в сложной ситуации. Предстояло выполнить тренировочный полет по маршруту в северо-восточном секторе от Москвы – нашей зоне испытательных полетов – через несколько городов, являвшихся для меня поворотными пунктами. Расчет полета я сделал для высоты 5000 метров. В день полета высота облачности оказалась ниже тысячи, мне разрешили лететь на высоте 500 метров.
В те годы летчики-испытатели были во многом самостоятельными, считалось, что они сами должны готовиться и планировать свой полет. Руководители, конечно, контролировали подготовку, но лишь в общих чертах. Это мне понравилось, но я еще не привык к отсутствию опеки и, не получив указаний, полетел, не изменив плана полета. Но это нужно было сделать, так как на реактивных самолетах километровый расход топлива и дальность зависят от высоты полета много больше, чем на поршневых самолетах: чем ниже летишь, тем быстрее расходуешь топливо. Конечно, я это знал, но подумал, что запас топлива у меня достаточный.
Однако разница в показаниях топливомера на поворотных пунктах, в сравнении с записанными на планшетке расчетными остатками топлива, увеличивалась быстрее, чем я ожидал. В середине маршрута, над Переславлем-Залесским, топлива осталось заметно меньше половины. По плану следовало пройти на юг до Покрова и уж потом возвращаться домой, на запад, но я, изменив маршрут, пошел прямо на свой аэродром. Вскоре понял, что топлива все равно может не хватить, решил пробить облака и набрать высоту 5000 метров, чтобы уменьшился расход топлива (хотя я еще не имел допуска к полетам в облаках).
Шел за сплошной облачностью по стрелке радиокомпаса, не зная расстояния до аэродрома (тогда еще не было постоянного радиолокационного контроля с аэродрома за самолетами). Загорелась красная лампочка – остался только аварийный остаток топлива. Пройдя еще немного, убрал газ и стал планировать. Будь что будет. И мне опять повезло – выйдя под облака, я увидел наш аэродром прямо впереди себя и, получив разрешение, сел с прямой, не делая круга.
Если бы не те два «оперативных» решения на маршруте, пришлось бы садиться «на живот» на каком-нибудь поле или катапультироваться. Не очень-то хорошая прелюдия к испытательной работе, если бы она вообще после этого началась.
После сдачи зачетов по методикам летных испытаний, в середине сентября, меня допустили к выполнению испытательных полетов и оформили представление на присвоение квалификации летчика-испытателя 3-го класса. (Приказ главкома ВВС, которым мне в числе других летчиков присвоили квалификацию, был подписан 15 декабря 1951 года.)
В отделе я встретился с младшим братом Степана Супруна – Александром. (Впервые я его увидел, когда он в составе звена «Спитфайров» 16-го авиаполка прилетал к нам в Двоевку на несколько дней для участия в ночном прикрытии Смоленска.) Саша Супрун еще до моего прихода в отдел провел необычные испытания. Дело было в том, что при полетах на МиГ-15 в строевых частях произошел ряд аварий на посадке: самолет, приземляясь, делал несколько «козлов» («подпрыгиваний» после касания земли). В испытаниях Супруна выявилось, что такие случаи могли происходить в результате ошибки летчика. При приземлении на слишком большой скорости, а значит, с недостаточно поднятым носом самолета переднее колесо, преждевременно ударяясь о землю, отталкивало нос вверх, а так как скорость при этом была еще больше посадочной, самолет отходил от земли. Летчик, парируя отскок, чрезмерно отдавал ручку от себя, переднее колесо ударялось о бетон еще сильней, и амплитуда «козла» увеличивалась (это явление назвали «прогрессирующим козлом»). Скорость при этом все время уменьшалась, и, когда она становилась слишком малой, самолет с очередного «козла» грубо приземлялся, обычно с поломкой шасси и даже повреждением фюзеляжа.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: