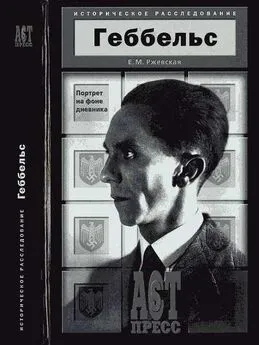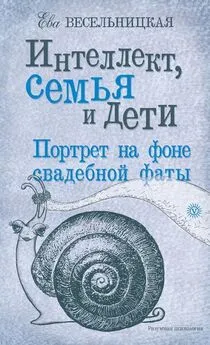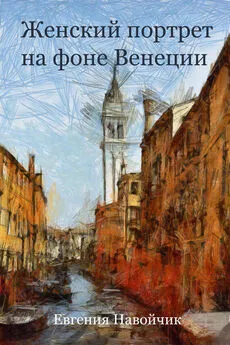Лаша Отхмезури - Жуков. Портрет на фоне эпохи
- Название:Жуков. Портрет на фоне эпохи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-05712-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лаша Отхмезури - Жуков. Портрет на фоне эпохи краткое содержание
Фундаментальный исторический труд посвящен жизни выдающегося военачальника, крупнейшего полководца Второй мировой войны Георгия Константиновича Жукова. Начиная с его детства и юности, проведенных в родной деревне Стрелковка Калужской области, первых лет воинской службы, участия в первых боях, авторы максимально подробно рассматривают военную и государственную деятельность Г.К. Жукова, его решающее влияние на ход Великой Отечественной войны и роль в самой победе над захватчиками. Особое внимание уделяется судьбе Жукова в послевоенный период, его преследованию и последующему взлету. Не скрывая ни достоинств, ни недостатков маршала, исследователи представляют его читателю как человека храброго и целеустремленного.
В российской истории Жуков стоит в одном ряду с Суворовым и Кутузовым, его жизнь неразрывно связана с жизнью Красной армии, большевистской партии и Советского Союза. Интерес к его личности не ослабевает, Жуков остается одним из немногих деятелей советской эпохи, почитание которых сохранилось и после крушения системы.
Жуков. Портрет на фоне эпохи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
27 мая 1939 года Жуков прибыл в Тамцак-Булак, монгольский городок, где находился штаб 57-го особого корпуса. Его там встретили командир корпуса комдив Н.В. Фекленко, комиссар корпуса М.С. Никишев и начальник штаба комбриг А.М. Кушев. В своих мемуарах Жуков переигрывает, описывая свою роль бульдозера:
«Из доклада [Кушева] было ясно, что командование корпуса истинной обстановки не знает. Я спросил Н.В. Фекленко, как он считает, можно ли за 120 километров от поля боя управлять войсками.
– Сидим мы здесь, конечно, далековато, – ответил он, – но у нас район событий не подготовлен в оперативном отношении. Впереди нет ни одного километра телефонно-телеграфных линий, нет подготовленного командного пункта, посадочных площадок.
– А что делается для того, чтобы все это было?
– Думаем послать за лесоматериалом и приступить к оборудованию КП.
Оказалось, что никто из командования корпусом, кроме полкового комиссара М.С. Никишева, в районе событий не был» [259] Жуков Г.К. Указ. соч. 1-е изд. С. 153–154.
.
Эту сцену следует оценивать очень осторожно. Жуков не мог так грубо наброситься на Фекленко. С одной стороны, Фекленко – его прежний сослуживец по Белоруссии, с которым он был близко знаком; с другой стороны – он кандидат в члены ЦК партии. И это последнее обстоятельство требовало от Жукова особой осторожности, тем более что за ним самим присматривал командарм Кулик, желтолицый карлик – типичный комиссар, друг и заместитель Ворошилова, приехавший вместе с Жуковым из Москвы. Таким образом, во время своей инспекции сам инспектор находится под присмотром старшего по званию. Такая перестраховка была распространенным явлением в сталинской системе. Как бы то ни было, Жуков 28 мая отправился на передовую позицию, откуда наблюдал за боем. 30-го он отправил Ворошилову рапорт, продублированный 3 июня еще одним, мало отличающимся от первого по содержанию: «…В течение 28 мая шел исключительно неорганизованный бой, управляемый только командирами подразделений. В течение 29 мая противник занимал высоту 2–3 км восточнее Халхин-Гола. Части группы, усиленные двумя батальонами 9-й мотобригады, наступая в лоб, пытались овладеть высотами; к исходу 29 мая части закрепились на реке, имея главную группировку западнее реки Халхин-Гол. В результате исключительно неорганизованного боя части в течение 28 и 29 мая понесли ориентировочно потери: убитыми – 71, ранеными – 80, пропавшими – 33. Среди причин потерь и неудовлетворительного боя отмечались: 1. Тактически неграмотное решение и легкомысленное отношение командования и штаба 57-го стрелкового корпуса к организации боя, отсутствие учета маневренной возможности и тактики противника. 2. Передоверие организации и ведения боя полковнику Ивенкову (начальник оперативного отдела штаба корпуса), выброшенному на командный пункт в единственном числе и без средств связи. 3. Незнание фактической обстановки на поле боя командованием корпуса». В рапорте от 3 июня Жуков хотя и демонстрирует некоторую деликатность, но повторяет свое суждение: «Фекленко, как большевик и человек хороший, и, безусловно, предан делу партии, много старается, но в основном мало организован и недостаточно целеустремлен» [260] Краснов В. Жуков, маршал великой империи. С. 102.
.
Нам неизвестна реакция Ворошилова на эти два рапорта. Похоже, что принять меры его побудил третий, направленный ему комкором Смушкевичем, заместителем командующего ВВС. Ввиду участия в действиях на Халхин-Голе значительных японских военно-воздушных сил, советское командование 29 мая направило в Монголию 48 пилотов и инженеров из числа самых заслуженных и награжденных. Половина из них даже имела уникальный опыт боевых действий против люфтваффе и региа аэронатика (франкистской авиации) в Испании и против японских ВВС (в Китае). Высокий, атлетически сложенный, отчаянный летчик-испытатель, Яков Смушкевич был тем самым легендарным «генералом Дугласом», который командовал советской авиационной бригадой на войне в Испании. Получивший звание Героя Советского Союза, невероятно популярный, Смушкевич, по возвращении в СССР, нашел ВВС обескровленными Большим террором: из 13 000 офицеров, служивших в них в 1937 году, были арестованы 4724, в том числе командующий ВВС Алкснис. В тюрьме сидели и знаменитые конструкторы Туполев и Поликарпов. Оценив за несколько дней ситуацию в Монголии, Смушкевич направил телеграмму Ворошилову: «Пришел к убеждению, что командование корпуса и лично Фекленко распустили части, совершенно не наладили тыл и очень низкая дисциплина. Бесспорно, что к войне командование корпуса не готовилось, или плохо готовилось. Поэтому при незначительных событиях командование растерялось, и это прямо сказалось и на авиации. Теперь тут наводит порядок Жуков. По-моему, целесообразно его хотя бы на время оставить командующим корпусом». Через несколько дней пришел ответ от Ворошилова: «Неподготовленность частей корпуса, в том числе авиации, недопустимую растерянность командования всех степеней, начиная с Фекленко, мы ежедневно чувствовали. Еще хуже выглядят авианачальники ЗабВО с Изотовым во главе. Обоих этих командиров на днях заменим» [261] Дайнес В. Жуков. С. 95.
.
В дополнение ко всему, 9 июня шеф НКВД Берия переслал Ворошилову рапорт Панина, начальника Особого отдела 57-го корпуса: та же констатация полной дезорганизации. Через два дня Ворошилов обратился к Сталину с просьбой санкционировать отставку Фекленко. 12 июня 1939 года комдиву Жукову сообщили, что он назначен командиром 57-го особого корпуса.
Прежде чем перейти к описанию действий Жукова летом 1939 года, необходимо хотя бы коротко изложить стратегическую ситуацию в регионе, приведшую к необъявленной войне на Халхин-Голе. После унизительного поражения в Русско-японской войне 1904–1905 годов, в результате которой она была вытеснена из Маньчжурии, Россия боялась, что в руки Японии попадет и вся Сибирь. В 1918 г. Токио направил свои войска в Сибирь в рамках интервенции стран Антанты и оккупировал значительную часть Транссибирской железнодорожной магистрали. Японские войска эвакуировались с советской территории только в 1922 году и с крайней неохотой. В 1919 году, на китайском полуострове Квантун (Гуаньдун), находившемся под властью Японии, была создана Квантунская армия, имевшая широкую автономию от Токио. Очень скоро она стала крупной силой в регионе. Во всех планах и Квантунской армии, и имперского Генерального штаба СССР указывался как главный противник Японии. В сентябре 1931 года Квантунской армией был спровоцирован инцидент, получивший название Мукденского, после чего, в результате молниеносно проведенной операции, Япония захватила огромную китайскую провинцию Маньчжурия. В следующем году на ее территории было создано государство Маньчжоу-Го, находившееся под японским протекторатом. Так японские и советские войска оказались друг напротив друга вдоль общей границы протяженностью в 5000 км. Москва предложила заключить договор о ненападении, но Токио в декабре 1931 года отверг это предложение. Почти тотчас после этого обе стороны зафиксировали первые пограничные инциденты.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: