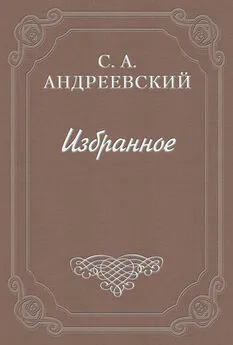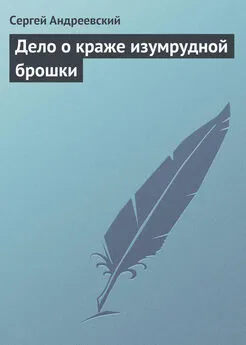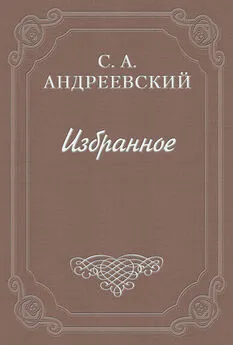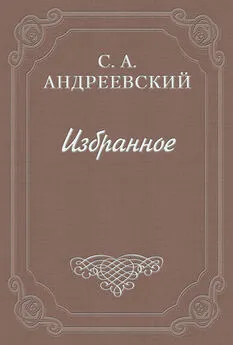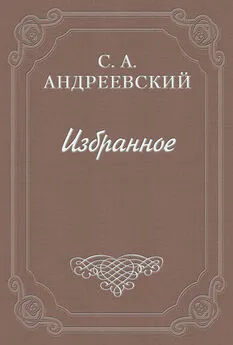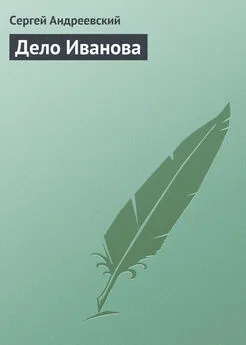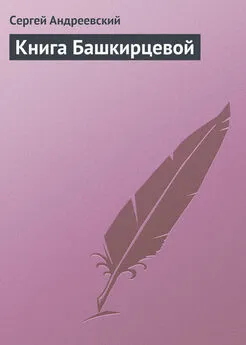Сергей Андреевский - Книга о смерти. Том II
- Название:Книга о смерти. Том II
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Андреевский - Книга о смерти. Том II краткое содержание
«Прошло еще два года. Каждая их минута была по-своему любопытна и значительна. Даже то, что виделось во сне, вполне захватывало, хотя бы на время, мою душу. Возможно ли удержать все это!.. Пришлось бы не жить, а только записывать. И сколько бы получилось повторений, общеизвестных и ненужных, тогда как в самой жизни все это выходило как бы новым и необходимым! Но эти мгновения уже успели исчезнуть бесследно и для меня. Оглядываясь назад, я могу довольно кратко передать мою жизнь за это время…»
Книга о смерти. Том II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И сколь бы последовательно и явно ни убеждала нас жизнь в противном, это нелепое убеждение живет с нами до конца.
XX
Я бы охотно отдал Богу мою жизнь – этот дар, значение которого я не понял. Я носил его, как священное бремя. Иногда это бремя обращалось в крылья и, казалось, поднимало меня к счастью, но на самой вершине радости я ударялся в нечто тупое и чувствовал: «Нет, это не то… А дальше идти некуда».
Быть может, значение каждой жизни в том, чтобы она прошла. «Что пройдет, то будет мило». Наш след оставляет в живущих и печаль, и благородную, возвышающую любовь к невозвратному. Сделаем что-нибудь для будущих жителей земли, расскажем им, что видели, что чувствовали. Они наши братья, они поймут. Их сочувствие и память – продолжение нашей души.
Пародируя французский афоризм о путешествиях, я бы сказал о жизни: on vit pour avoir vécu [9].
XXI
Для того, чтобы быть любимым, надо умереть. И, напротив, если кто был любим при жизни, того забудут.
XXII
Журналистка трубит: Жизнь! Люди!
Поэзия взывает: Бог! Я!
Журналистика испаряется, поэзия остается.
XXIII
Я встретил ее 22-го апреля 1889 года. Она меня ослепила сразу своим изяществом, грациею, благородством, молодостью. Ей было двадцать, мне шел сорок второй. К ней относится мое стихотворение: «Мне снилось, я поэт…» В течение десяти лет она была единственною радостью моей жизни, невзирая на всевозможные раздоры, тягости и мучения. Ничто не могло заглушить во мне чувства близости к ней. Она мне отдалась вся, целиком, без возврата, – верная, правдивая, гордая, одинокая, чарующая и странная… Она потребовала только моей взаимной верности, высказав незабвенную мысль: «Je comprends qu'on peut rendre son corps sans rendre son coeur, mais quand on a rendu son coeur, on ne peut plus rendre à personne sons corps» [10]. К исходу десяти лет постепенно обнаруживалась ее болезнь. Вспыхивала беспричинная, гневная ревность. Начались непонятные и несвойственные ей требования, угрозы, – с ее кротких милых уст гремела неистовая брань, – иногда на ее бледном, измученном и очаровательном лице вдруг появлялась нежная доброта, и она в недоумении шептала: «Je ne sait ce que c'est. Je suis malhereuse. Il ne me reste que l'hôpital ou le couvent» [11]. Наступил бурный разрыв, в течение которого (почти полгода) она не выходила из своих комнат и пролежала в постели. Я исстрадался, не понимая, что творится. Наконец она не выдержала и первая потребовала моего возврата. А через несколько месяцев обнаружилась ее душевная болезнь…
Больница. Опять разлука, на этот раз похожая на кошмар.
И еще два года мучительных радостей. Оставаясь странною, она расцвела, сделалась мирною, трудолюбивою, – любящею безропотно, смиренно, трогательно.
И вдруг, весною 1902 года, за одну неделю, весь недуг возвратился с необычайною силою.
29-го марта 1902 года она вышла из своего уголка, покорная, в бреду, села в карету и была скрыта от моих глаз почти навсегда в другой больнице. Не было дня, чтобы я не думал о ней – и не делил мысленно ее страданий и неволи.
Меня обнадеживали… 7-го августа 1904 года, через два с половиною года, я наконец решился увидеть ее (раньше не пускали), чтобы хоть проститься. С холодеющим сердцем вступил я в коридор, где была ее комната, и прошел мимо открытой в эту комнату двери… Я не узнал ее. Меня остановили и вернули. В глубине комнаты поднялась мне навстречу слабенькая высохшая женщина с побелевшими волосами. Но это была она. И я зарыдал громко, без удержу; и плакал почти целый час, как бы над ее гробом. И она молча, крепко прижималась ко мне, стоя за моей спиною и закрывая мои глаза своею прелестною ручкою, чтобы я не вглядывался в ее искаженные черты… Сердце ее страшно стучало, но, задыхаясь от волнения, она не произносила ни слова. Когда же меня позвали, сказав, что свидание наше кончено, она разомкнула свои руки, отошла и вдруг начала произносить осипшим голосом, куда-то в сторону, какой-то непостижимый набор слов с выкриками ругательств…
XXIV
Маятник Вечности слышится людям только раз в столетие. В одно столетие он отбивает: «есть Бог», в другое: «нет Бога». И так, долгими веками, несчастная душа человечества все мечется то вверх, то вниз.
XXV
Для всех людей существуют три бездны, три тайны, три надежды на счастье: Бог, Любовь двух полов и Смерть. Это и есть основа жизни: три кита, на которых держится мир. Триединая (Святая) Троица. Не будь метрических книг, не было бы никакой надобности в религии, потому что мы обращаемся к духовенству только для крещения, бракосочетания и погребения.
XXVI
Я чувствовал себя гораздо лучше и был несравненно благороднее, пока не родился. Умирая, можно утешить себя автоэпитафией малороссийского философа Сковороды: «Мир меня ловил, да не поймал». Мой вариант той же эпитафии: «Я отдал людям жизнь, но душу взял с собой».
XXVII
Это было летом, когда умер присяжный поверенный Миронов. О нем, помнится, говорил Урусов: «В этом человеке трепыхается такое же доброе сердце, как у среднего русского присяжного заседателя». Я любил Миронова за простую звучную речь, за теплую душу, за его здравый ум и мягкие взгляды на людей. Он всю жизнь хлопотал, защищал по всяким делам, был популярен. Полный, почти тучный, бородатый, громогласный, Миронов казался здоровым, но в действительности всегда страдал сердцем. И умирал тяжело… В светлый летний вечер я поднялся в его квартиру на панихиду. Простоял в передней, не заглядывая в зал…
Возвратившись к себе, я прочитал в газете, что эскадра Рожественского прошла мимо Канарских островов. Где это Канарские острова? Я всегда был плох в географии. Мне почему-то вздумалось: а, пожалуй, Миронов это знал… Если бы он был жив, я бы просто спросил его об этом. Теперь спросить нельзя!.. Совсем нельзя. Ведь вот задача! Мне вдруг мучительно захотелось убедиться, знал он или не знал о Канарских островах и скоро ли бы ответил. Я готов был, кажется, растолкать, пробудить, оживить его.
Но, в сущности, стоило ли просыпаться от вечного сна для того только, чтобы пробормотать: «А?.. Что?.. Канарские острова?..» Ответить и вновь умереть.
XXVIII
Описывать ли этот минувший год (1904–1905) – первый после Плеве?
Политика никогда не захватывала и не увлекала меня. Я всегда смотрел на правительство, как на прислугу, оберегающую спокойствие и довольство жителей государства точно так же, как это делают слуги отдельного дома – швейцары, дворники, сторожа и т. д. Правительству поручается заботиться о том, чтобы ничто не мешало спокойному и свободному течению жизни, чтобы соседний народ не вторгался в наши пределы, как злодей, чтобы неразвитые, жалкие, дикие люди внутри страны не делали обид порядочным людям, – словом, чтобы каждый делал свое нужное дело с любовью и без помехи. В широком смысле, деятельность каждого правительства все-таки отрицательная, а не творческая. Портной, часовщик, ювелир, башмачник (не говоря уже о высших деятелях духовных) создают нечто новое, нужное, интересное, а правительство только и должно думать о том, чтобы всем таким нужным людям жилось беспрепятственно. За это правительству щедро платят, дают ему потешаться видным положением и, конечно, питают к нему известную благодарность. Вот и все.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: