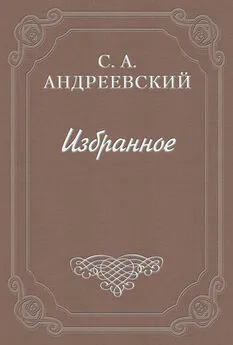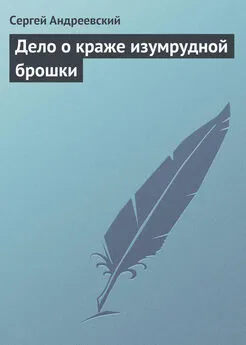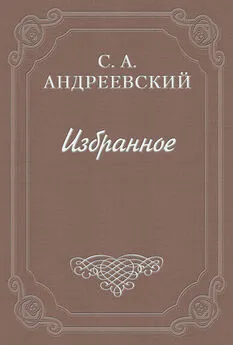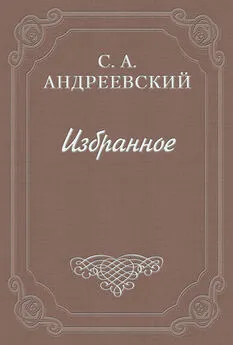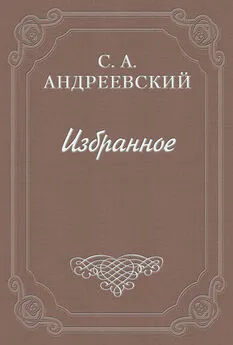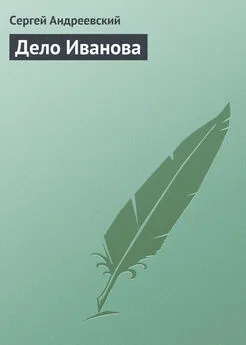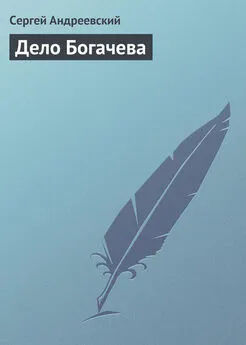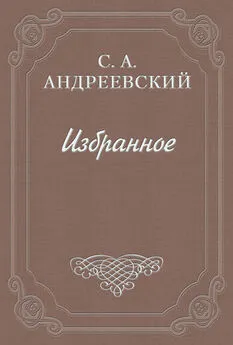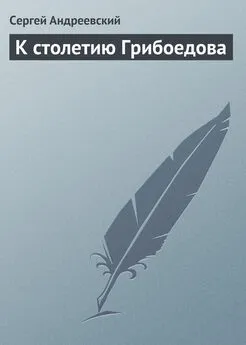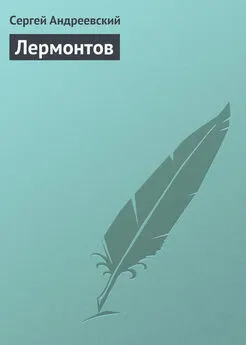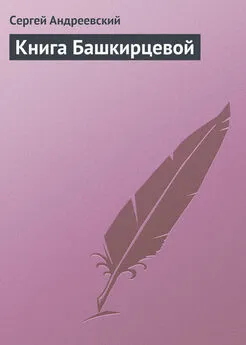Сергей Андреевский - Книга о смерти. Том II
- Название:Книга о смерти. Том II
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Андреевский - Книга о смерти. Том II краткое содержание
«Прошло еще два года. Каждая их минута была по-своему любопытна и значительна. Даже то, что виделось во сне, вполне захватывало, хотя бы на время, мою душу. Возможно ли удержать все это!.. Пришлось бы не жить, а только записывать. И сколько бы получилось повторений, общеизвестных и ненужных, тогда как в самой жизни все это выходило как бы новым и необходимым! Но эти мгновения уже успели исчезнуть бесследно и для меня. Оглядываясь назад, я могу довольно кратко передать мою жизнь за это время…»
Книга о смерти. Том II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но так как в массе человечества еще на многие века вперед останется великое множество горестей материальных и страстей чисто животных, то роль правительства продолжает быть громадною. Войны, революции, государи, полководцы, правители, герои отечественной обороны и народного бунта – все это яркими строками вписывается в историю.
И вот теперь совершается в России переворот.
Оказывается, что неисчислимое множество прогрессивных людей, молодых и старых – всех профессий и положений – издавна ненавидело правительство. Это глупое, самодовольное, праздное и хищническое правительство преспокойно придавливало все, что ни попало, заслоняясь от малейшей попытки нарекания или протеста божественною абсолютною властью монарха.
Плеве был тем пластырем, который прикладывают к нарыву для того, чтобы он увеличился до полного напряжения и, наконец, прорвал. Когда после убийства Сипягина, Плеве был назначен на его место, я говорил одному из его близких знакомых:
«Знаете? Плеве не годится. Он не понимает настоящего времени. Его личность вполне сформировалась еще в последние годы Александра II, когда правительство задавалось одною главною целью: охранять жизнь царя. Он будет действовать в том же духе. Он все прикроет и придушит. Но это ни к чему не поведет. Ведь теперь потребность в свободе уже не составляет „дерзости“, „бунта“ и т. п. Она так же проста и понятна, как желание иметь водопроводы, телефоны, электрическое освещение и прочие общепризнанные удобства жизни. Как этого не понять?»
«Да… Пожалуй… Трудное время… Что же поделаете!..»
Случилось, как я думал. Плеве решил затянуть мятущуюся Россию «железною уздою». Он был неутомим, силен, беспощаден. Полагаю, что он действовал по убеждению. Он знал, что его жизнь в опасности, что его не любят. Работал много, был краток в резолюциях, жесток в отношении всех, кто ему мешал. Волнение разрасталось, а он все гнул по-своему. Ссылал, казнил, порабощал печать. Но за наживою он не гнался. Царю не только не льстил, но даже держал его под своим надзором. Едва ли и деспотизм доставлял ему приятные чувства, потому что он понимал трудность положения и, насколько я его видел издалека, всегда имел озабоченное, суровое лицо без улыбки. Значит, ему казалось, что нужно так действовать. Это было странное трагическое ослепление, внушенное ему, быть может, историей, которая избрала его последним мастером консерватизма, последним отчаянным слугою самодержавия, как идеи, потому что насчет индивидуальной личности оберегаемого им самодержца Плеве не мог иметь никаких иллюзий. Так думалось мне со стороны. Да и все, мне кажется, вообще чувствовали, что «Плеве лезет на рожон».
И все-таки на охрану Плеве столько тратилось, фигура его была так сильна, что, казалось, к нему нет никакого приступа. И вдруг – этого человека убили, без промаха, в одно мгновение, среди белого дня. Я узнал о событии минут через сорок, по телефону. Не верилось… Невольно я спросил: «Уже умер?» – «Да, мгновенно. Под карету была брошена бомба».
Сразу почувствовалось необыкновенное облегчение.
Никакого подобия преемника для Плеве в руках правительства не предвиделось. Последняя ставка репрессии была проиграна. Нельзя было сомневаться, что жизнь России так или иначе, но неизбежно повернется к воле.
Призвали к управлению страною милого Святополк-Мирского. Его «доверие», т. е. непрепятствование общественному мнению, сделало чудеса. Впервые заговорило развязанное слово печати. Статья Евгения Трубецкого «Бюрократия и война» была первым опытом откровенной публицистики. Ее прочли все, не веря своим глазам. Обрадовались и почувствовали смелость.
Убийца Плеве, Сазонов, не был казнен.
А осенью уже нельзя было выгнать из Петербурга земцев, которые съехались в полуконспиративное сборище для того, чтобы заговорить о конституции. Их игнорировали, но им не препятствовали. Три дня длилось это совещание. Резолюция съезда была отпечатана и ходила по рукам. Те, кто встречал после того участников съезда, невольно спрашивали: «И вы еще не арестованы?!»
Затем все пошло с поразительною быстротою: шествие рабочих к царю 9 января под предводительством Гапона, кровопролитие этого дня, убийство Сергея Александровича, манифест, указ и рескрипт 18 февраля, депутация Трубецкого 6 июня, глупенькое положение о Государственной Думе 6 августа, автономия университетов и нескончаемые митинги, внезапная смерть Трубецкого с грандиозными чествованиями его праха, неожиданная и грозная забастовка всех железных дорог, эпидемическое забастование прессы, освещения аптек, разных учреждений и т. д. Вот что случилось до того дня, как я пишу.
Под давлением таких событий невольно появилась конституция 17 октября. Она была объявлена где-то на Невском ночью, а я прочел о ней в 8 часов утра 18 октября в «Правительственном вестнике». У меня дома в этот день была трудно больная, и я выбрался только в три часа, чтобы взглянуть на город. День был сырой, безветренный. На Невском необычайная, возбужденная многолюдность. Толпились во всю ширину проспекта, до его середины, благодаря отсутствию все еще бастовавших конок. Замечались повсюду, где представлялась возможность, плотные группы людей, с какими-то ораторами посередине: на углах улиц, у Гостиного Двора, на крыльце Думы. Народ кишел, но экипажи двигались свободно. В толпе чуялось оживление, любопытство, сознание какой-то важной победы и сдержанное удовлетворение. Полицейские и городовые имели вид недавних врагов, обратившихся в друзей с широкими улыбками и покровительственным добродушием. Часто попадались небольшие процессии с красным знаменем. Перед первою из таких процессий я невольно обнажил голову: ведь это было знамя действительно завоеванной свободы, за которую достаточно пролилось крови, перенесено тюрем, ссылок, каторги и виселиц. Кажется, простая вещь, а какими страданиями и ужасами достигается!
Возвратившись домой, я узнал, что и в предыдущую ночь, и сегодня в эту взбудораженную манифестом толпу стреляли… Были убитые и раненые.
Последующие дни доказали, что Манифест о конституции принят только как «обещание». Между тем объявленная «гражданская свобода» вызвала повсеместные новые трагедии. Революционеры с азартом сквернословили. Приверженцы старины взбесились. Резня, варварские убийства с поджогами! Газеты сбросили с себя цензуру. Радикальные и вновь возникшие издания заговорили разбойничьим, беспощадным языком.
Нет! Как-то не хочется писать дальше… Да и ни к чему, – все будет известно из истории. Происходит несуразная сумятица. Революция… Это нужно и однако же мерзко. Так бывает всегда, когда действуют большие человеческие массы. В отдельном человеке еще можно доискаться до Бога, но в громадных толпах народа всегда действует один дьявол. Нельзя узнать людей… Они глупеют и озверяются.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: