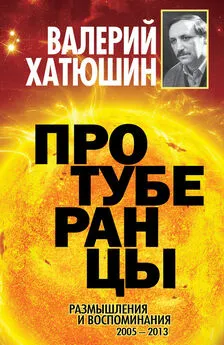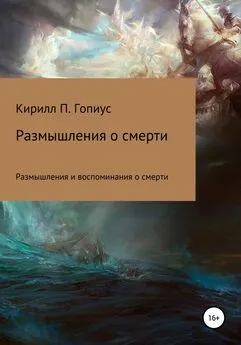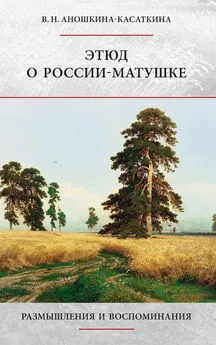Илья Серман - Свободные размышления. Воспоминания, статьи
- Название:Свободные размышления. Воспоминания, статьи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-4448-0366-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Серман - Свободные размышления. Воспоминания, статьи краткое содержание
За 97 лет, которые прожил И. З. Серман, всемирно известный историк русской литературы XVIII века, ему неоднократно приходилось начинать жизнь сначала: после Отечественной войны, куда он пошел рядовым солдатом, после возвращения из ГУЛАГа, после изгнания из Пушкинского дома и отъезда в Израиль. Но никакие жизненные катастрофы не могли заставить ученого не заниматься любимым делом – историей русской литературы. Результаты научной деятельности на протяжении трех четвертей века частично отражены в предлагаемом сборнике, составленным И. З. Серманом еще при жизни. Наряду с работами о влиянии одического стиля Державина на поэзию Маяковского и метаморфозах восприятия пьес Фонвизина мы читаем о литературных интересах Петра Первого, о «театре» Сергея Довлатова, о борьбе между славянофилами и западниками и многом другом. Разные по содержанию и стилю работы создают мозаичную картину трех столетий русской литературы, способную удивить и заинтересовать даже искушенного читателя.
Свободные размышления. Воспоминания, статьи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Историческая действительность стимулировала возврат к тематическому центру обоих жанров, эпопеи и оды, – к теме Его, Бога, Царя, Властителя, Вождя! Старые поэтики не занимались тематикой оды, ибо она подразумевалась ее местом в литературной иерархии. Надо было нормировать конструкцию и стилистику оды, а не ее тематику. Инерция такого отношения к оде повлияла и на исследования оды, созданные в ХХ веке – на работы Тынянова 503и Гуковского 504, – так как в это время проблема оды и одического языка подсказана была науке живой литературой, а не полузабытыми образцами одической классики XVIII века 505.
В 1920-е годы шла непрерывная переоценка поэтических жанров и поэтому оказалось возможно возрождение забытого с начала XIX века теоретического жанра – поэмы о поэзии, образцом которого с XVII века являлась знаменитая поэма Буало «L’art poétique». Вслед за Буало в европейских стихотворных поэтиках основное внимание уделялось двум жанрам высокой поэзии – оде и эпопее.
Интерес поэзии 1920-х годов к этим двум жанрам, к принципам их конструкции хорошо известен.
Ода XVIII века в ее наиболее политизированной форме строилась на противопоставлении двух Властителей – свергнутого прежнего и нового, возведенного на престол к счастию его подданных. У Ломоносова такие пары – это Анна – Елизавета, Петр III – Екатерина II; у Державина – Павел I – Александр I.
В «Высокой болезни» прежним властелином оказывается Николай II, что не соответствует хронологии (периода власти Временного правительства как бы и не существует), но зато дает возможность использовать традиционные одические атрибуты царя – орел и солнце. При этом «орел» в «Высокой болезни» сначала именно атрибут:
Орлы двуглавые в вуали,
Вагоны Пульмана во мгле
Часами во поле стояли,
И мартом пахло на земле (242).
Затем орел становится заместителем, субститутом царя:
И уставал орел двуглавый,
По Псковской области кружа,
От стягивающейся облавы
Неведомого мятежа (242).
Ближайшим образом пастернаковский орел поэтически восходит к оде Державина «Видение мурзы», где рядом с Екатериной II
Орел полунощный, огромный,
Сопутник молний торжеству,
Геройской провозвестник славы,
Сидя пред ним на груде книг,
Священно блюл ее уставы… 506
Вполне в духе одической поэзии у Пастернака «солнце» представлено в своем собственном качестве и как метафора свергнутого владыки:
Два солнца встретились в окне.
Одно всходило из-за Тосна,
Другое заходило в Дне (243).
Смысл этого уподобления царя солнцу в русской одической традиции очень хорошо объяснил еще Ломоносов в оде 1752 года:
Что часто солнечным сравняем
Тебя, Монархиня, лучам,
От нужды дел не прибегаем
К однем толь много крат речам:
Когда ни начинаем слово,
Сияние в тебе зрим ново
И нову красоту доброт.
Лишь только ум к тебе возводим,
Мы ясность солнечну находим
И многих теплоту щедрот 507.
Из оды пришло к Пастернаку и сравнение выхода Ленина на трибуну с появлением шаровой молнии:
Я помню, говорок его
Пронзил мне искрами загривок,
Как шорох молньи шаровой…
…………………………..
Он проскользнул неуследимо
Сквозь строй препятствий и подмог,
Как этот, в комнату без дыма
Грозы влетающий комок (243).
У Державина («Видение мурзы») Екатерина – «богиня», как она названа в оде, – является поэту, освещенная молниями:
Мое все зданье потряслось,
Раздвиглись стены, и стократно
Ярчее молний пролилось
Сиянье вкруг меня небесно;
………………………….
Виденье я узрел чудесно:
Сошла со облаков жена 508.
Желание создать эпос отвечало, как казалось тогда, в 1920-е годы, многим, небывалости исторической ситуации, в которой оказалась русская литература после 1917 года. Предполагалось, что начинается новая эпоха исторического, социального и духовного развития.
Собственная поэма, вернее работа над ней, убедила Пастернака в том, что эпическая поэма с ее обязательно прочным сюжетом и вовлеченными в этот сюжет персонажами неосуществима. Лирическому переживанию «годов лихолетья» оказалась созвучной «лирика» в старинном, идущем от XVIII века ее значении, когда главным лирическим жанром была торжественная или похвальная ода.
Поэтому в своих поэмах, написанных после «Высокой болезни», Пастернак опирался или на свои воспоминания («1905 год»), или на документы («Лейтенант Шмидт»), то есть обратился к поэтике прозаических жанров взамен не «вытанцевавшегося» эпоса.
1991 г.
Мера времени Бориса Слуцкого
Мы, наше поколение, узнавали стихи Слуцкого не по сборникам, а по машинописным копиям только-только возникавшего в середине пятидесятых годов самиздата. С тех пор мы жили с этими стихами. Они с нами остались, хотя некоторые из них были напечатаны в России только в конце 1980-х годов.
Той популярности, которую завоевал Слуцкий во второй половине 1950-х годов, хватило до середины следующего десятилетия. Для истории литературы это очень большой срок. Вспомним, что слава Пушкина, взмывшая после «Руслана и Людмилы», в 1820 году, в 1830 году сменилась читательским охлаждением и критическими развенчиваниями.
Феноменальный успех Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, затмивших и оттеснивших Слуцкого, вполне объясним. Эти поэты внесли то, что тогда было названо «самовыражением», а Слуцкий появился в печати с военной темой, уже многим неинтересной.
Слуцкий в этом смысле уникальное явление – поэт, у которого нет стихов о любви! Во второй половине шестидесятых годов это, вероятно, ощущалось новыми поколениями как недостаток, как неполнота. Он это почувствовал и понял, но не стал угождать изменившимся вкусам читателей. Он остался верен себе и своим темам, своему пафосу, как сказали бы во времена Белинского.
Чем объяснить, что поэт, заявивший о себе на переломе эпох как истолкователь сталинского правления и как проницательный угадчик грядущих социальных перемен, вдруг остановился и, как могло показаться, отстал от времени? В одной из ранних вещей из числа опубликованных только в трехтомнике он предложил такое определение поэзии: Быть мерой времени – вот мера для стиха! 509
По-видимому, для того чтобы определить историческое значение и смысл сделанного Слуцким, надо попробовать найти его собственную, только ему принадлежавшую меру времени.
Предварительно несколько кратких замечаний об идеологическом и поэтическом ученичестве Б. Слуцкого. Мальчик, а потом и юноша Слуцкий жил в атмосфере относительного демократизма, какой еще сохранялся, пока Сталин не начав вводить в стране единомыслие, где-то в 1929 году. Принадлежность Бориса Слуцкого к еврейству усиливала в нем интернационалистские убеждения и надежды, которые еще не сменялись национально-державными лозунгами середины 1930-х. Советская власть дала евреям полное гражданское равноправие – с этим убеждением вырастал Борис Слуцкий, а его увлечение историей, особенно историей Великой французской революции 1789 – 1793 годов (тогда еще не приказано было считать великой только октябрьскую революцию 1917-го!), внушало ему убежденность в грядущей победе мировой пролетарской революции. Подобно Маяковскому, перекладывавшему в поэме «Владимир Ильич Ленин» строки из статей героя поэмы, Слуцкий строил стихи как поэтическое изложение слов этого же персонажа:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: