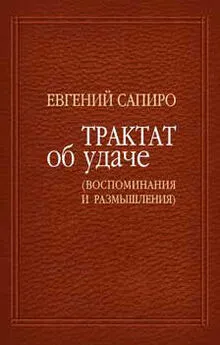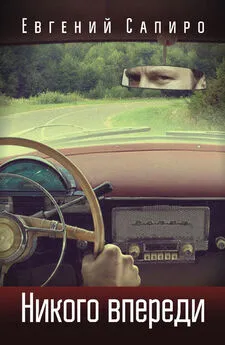Евгений Сапиро - Трактат об удаче (воспоминания и размышления)
- Название:Трактат об удаче (воспоминания и размышления)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Маматов»3f9040b4-ee5d-11e4-a04a-002590591dd6
- Год:2009
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-91076-025-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Сапиро - Трактат об удаче (воспоминания и размышления) краткое содержание
В 2001–2002 годах пермская газета «Новый Компаньон» более полугода печатала воспоминания спикера Законодательного собрания Пермской области первого созыва, экс-министра региональной и национальной политики России профессора Е. С. Сапиро. Эти воспоминания стали основой книги «Стриптиз с юмором», изданной в Перми в 2003 году и вызвавшей большой интерес читателей.
Хотя в «Трактате об удаче» присутствуют некоторые сюжеты из «Стриптиза…», он не является повторением или продолжением первой книги. Новая книга – иная по содержанию («пять лет спустя»), по форме и даже по своей философии.
В книге использованы фотографии из личного архива автора.
Трактат об удаче (воспоминания и размышления) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Психологическая «теория относительности» универсальна, вернее – всеядна. Отталкиваясь от нее, можно (а чаще всего нужно) ставить под сомнение самую тщательную, научно обоснованную оценку любого объекта, действия, результата. В том числе – достигнутого успеха.
– Шеф меня похвалил (ура!). Но премии не удостоил (что-то не так?).
– Наш банк лучший в регионе! (аплодисменты). Но не входит в первую сотню федеральных (информация для размышления).
– Ксюша удостоила меня своим вниманием (это – супер!). Но не меня одного (делим «супер» на «икс» неизвестных).
И так до бесконечности.
Недели через две после назначения федеральным министром я поймал себя вот на чем: хотя, как и все мои коллеги-министры, я имею одинаковый с ними статус, но кое-кого из них я сам воспринимаю как более «высокого», значительного. Вначале причиной этого я посчитал присутствие в наших рядах «президентских министров» (подчиненных непосредственно президенту). Но странное дело: с министром обороны, почти моим ровесником, маршалом Игорем Сергеевым я чувствовал себя на равных. А с другим ровесником, министром иностранных дел Евгением Примаковым ощущал явную дистанцию. Так же, как и с «молодыми»: Сергеем Степашиным, Сергеем Шойгу. Постепенно я нашел разгадку этого проявления «теории относительности». Е. Примаков, С. Шойгу, С. Степашин, Я. Уринсон были «дедами» в этой роте. А мы – «салагами» [159].
Во всех приведенных примерах оговорка «но» снижает цену успеха, приземляет. Но если изменить парадигму, то «теория относительности» начинает работать «на повышение»:
– Я не получил премии, но шеф выделил, похвалил именно меня.
– Наш банк пока не занял лидирующие позиции в федеральном списке, но в регионе мы уже первые.
– Ксюша выбирает лучших. И я среди них!..
Из приведенной выше «перемены мест слагаемых» вытекают два вопроса:
Первый: учитывая такую гибкость «теории относительности», стоит ли обращать на нее внимание?
Второй: если «да», то исходя из какой парадигмы?
Я думаю, что на эту теорию следует не только обращать внимание, но и учитывать при принятии решений.
Что касается выбора парадигмы, то нельзя забывать, что все определяется ситуацией, нюансами.
В соответствии с формальной управленческой иерархией пост министра более высокий и престижный, чем председателя комитета Совета Федерации. Но не «в разы» .
А вот степень свободы в те годы у сенатора была на порядок выше, чем у министра.
Если бы мне предложили быть министром, когда я был сенатором и председателем ЗС, я бы точно отказался. Оставаясь в той же весовой категории, я выиграл бы в престиже , но потерял в свободе . Решение было бы отрицательное.
Когда мне реально предложили стать министром, я был рядовым депутатом областного ЗС. Свободы у депутата было еще больше, но пост, его престижность – на порядок ниже. Это был выбор между весовыми категориями, и решение было принято положительное.
Даже не помню, с каких пор (может быть, со студенческих), но, прежде чем решить что-то важное, дать ответственную оценку, я применяю «метод подстановки». Он явно вытекает из «теории относительности», хотя по своей методике прост до примитива.
Первый вариант «метода подстановки» заключается в том, что я условно ставлю себя на место человека, действия которого пытаюсь оценить. И спрашиваю себя: как бы ты повел себя в этой ситуации? Примерно в трех случаях из десяти, поставив себя на «чужое место», я изменял свое первоначальное мнение. Своя рубашка – ближе к телу!
Второй вариант психологически менее суров и используется в случаях, когда требуется решить, кто из двух соперников, оппонентов прав.
В 2008 году М. Ходорковский «отмотал» половину своего срока, что, теоретически, давало ему шанс выйти на свободу. В связи с этим в прессе, в Интернете возникла острая дискуссия, в ходе которой сторонниками и противниками досрочного освобождения высказывались как свежие аргументы, так и ссылки на ранее опубликованные.
Не вникая в юридические тонкости, я мысленно соглашался с теми, кто считает, что свой тяжкий экзамен Михаил Борисович сдает достойно. Вот тут, словно электрический разряд, проскочила крамольная мысль, навеянная «методом подстановки»: а как бы повели себя на (читинском) месте М. Ходорковского его непреклонные судьи, например телеведущий Александр Гордон, космонавт Георгий Гречко и, страшно подумать, Игорь Иванович Сечин?
Великость
Впервые термин «великость» в том значении, в котором он занял свое прочное место в моем психологическом словаре, я услышал в середине 1970-х годов. Мы с моим другом и коллегой Игорем Кручининым зашли в кабинет заведующего кафедрой отраслевых экономик Рэма Коренченко, чтобы решить какой-то дежурный вопрос. По «погонам» Кручинин и Коренченко формально были равными: оба в то время кандидаты наук. Правда, Коренченко, в отличие от коллеги, принадлежал к числу университетских аборигенов. К тому же кафедра его была выпускающей на докторский Ученый совет, где в ближайшие годы нам всем троим предстояло защищаться. Когда появлялся повод, то Рэм не упускал шанса показать, что он хоть на вершок, но повыше. Подобное произошло и в тот день. Однако вместо того чтобы уговаривать коллегу, тощий Кручинин отступил на шаг и с высоты своих почти двух метров произнес: «Рэм! Великость тебя погубит!»
«Великость» я воспринимаю как провал экзамена по учебной дисциплине, называемой «медные трубы». Это одна из трех «дисциплин», известных по присказке про «огонь, воду и медные трубы». Убежден, что для людей способных, с сильным характером, экзамен на «медные трубы» оказывается наиболее трудным. Вода и пламя – понятные противники. Преодолевать их трудно, опасно, но с ними все ясно: на войне как на войне. Другое дело – звучащие в честь тебя трубы. Как убаюкивают теплые слова о себе, любимом! Как незаметно, ненавязчиво тебе показывают, что ты «самый-самый»! На первых порах объект подхалимажа еще позволяет другим подшучивать над собой. Затем это начинает раздражать, и подобные шутники изымаются из окружения. Но он еще понимает, что не святой и изредка может пошутить сам над собой. Наконец, исчезает и способность к самоиронии. Иногда этот момент совпадает с прогрессирующим склерозом.
На меня удручающее впечатление произвела перемена, произошедшая за кратчайшее время с экономическим корифеем 1970-х годов, автором многочисленных учебников, большой фигурой ВАКа Ипполитом Михайловичем Разумовым. Мне посчастливилось быть его попутчиком в вагоне «СВ» поезда Москва – Пермь. Тогда ему перевалило за семьдесят. Совсем молодым он уже занимал видное положение в Госплане, знал всех и вся, и все знали его. В нашей поездке под коньячок он рассказывал мне о послереволюционных и военных годах, о людях, которым были посвящены страницы в энциклопедиях, об их профессиональных заслугах и человеческих качествах, о тайнах московского научного «двора»… И с изящной иронией – о себе, своих регалиях и «иконостасе», о своих досадных, но смешных проколах…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: