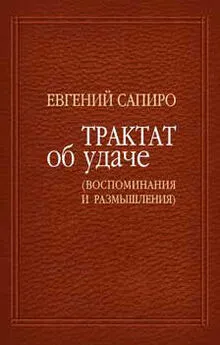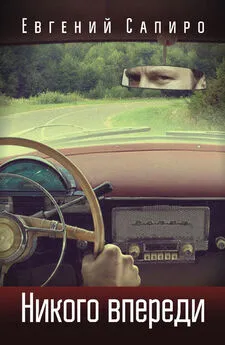Евгений Сапиро - Трактат об удаче (воспоминания и размышления)
- Название:Трактат об удаче (воспоминания и размышления)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Маматов»3f9040b4-ee5d-11e4-a04a-002590591dd6
- Год:2009
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-91076-025-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Сапиро - Трактат об удаче (воспоминания и размышления) краткое содержание
В 2001–2002 годах пермская газета «Новый Компаньон» более полугода печатала воспоминания спикера Законодательного собрания Пермской области первого созыва, экс-министра региональной и национальной политики России профессора Е. С. Сапиро. Эти воспоминания стали основой книги «Стриптиз с юмором», изданной в Перми в 2003 году и вызвавшей большой интерес читателей.
Хотя в «Трактате об удаче» присутствуют некоторые сюжеты из «Стриптиза…», он не является повторением или продолжением первой книги. Новая книга – иная по содержанию («пять лет спустя»), по форме и даже по своей философии.
В книге использованы фотографии из личного архива автора.
Трактат об удаче (воспоминания и размышления) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вся последующая жизнь показала, что школа – это основание, фундамент здания, которое называется жизнь и строительство которого ведется до последних дней. С благодарностью могу сказать, что наши преподаватели учили нас хорошо. Все, кто поступал, поступили в институты, военные училища, а после их окончания показали себя достойными специалистами… и людьми. Лично я учился средне. В основном на четверки. До восьмого класса иногда проскакивали троечки. После восьмого по гуманитарным дисциплинам пошли пятерки, по точным наукам – четверки.
Анализируя свой школьный опыт, хочу поделиться одним наблюдением. Все изучаемые дисциплины можно поделить на две группы: непрерывные (постоянные) и относительно локальные. Первая группа – это математика (от арифметики до теории вероятности и эконометрических моделей); русский язык и литература; иностранный язык. Это дисциплины, которые нужны каждый день , а, главное, их нельзя выучить штурмом , за неделю.
Их нельзя «запускать», что-то пропускать. Без этого пропущенного просто невозможно двигаться дальше.
Если при изучении истории ты перескочил через пару веков – нехорошо, конечно, но исправимо. С математикой такие финты не проходят. В шестом классе я серьезно отстал по математике и, хотя позднее массу сил и времени потратил на то, чтобы догнать, она так и осталось моим слабым местом.
Как о предметниках, добрая память осталась о большинстве наших учителей: Н. Петуховой (химия), Л. Синельниковой (география), А. Жуже (физика), Б. Чудинове (история). К своему стыду, забыл фамилию прекрасной учительницы по литературе, работающей с нами в девятом и десятом (1950–1951 гг.).
Воспитателем «от бога» был учитель физкультуры и «военки», фронтовик Василий Иванович Латышев. Последний раз я с ним встречался в 1997 году и благодарен судьбе, что смог отчитаться перед своим наставником: я не подвел его ни в чем.
Закончив школу с серебряной медалью, я без труда поступил на металлургический факультет Уральского политехнического института (УПИ). Давно обратил внимание на такую закономерность. На каком-то этапе жизненного пути занят ты с утра до вечера. Но если все идет, как говорят ракетчики, штатно, ровно, то спустя годы в памяти этот этап во времени сжимается до минимума, и что-либо вспомнить о нем трудно.
Примерно так получилось с моей учебой в УПИ. Отлично помню нашу дружную легкоатлетическую секцию («конюшню»). Пижонский лозунг: «Если спорт мешает учебе – надо бросить… учебу»… Но о спорте поговорим позднее.
А вот учеба… Начало оказалось суровым. Воодушевленный хорошим окончанием школы, оказавшись вне родительского дома «без присмотра», увлекшись спортом, я расслабился и первую сессию начал с «завала» – двойки по математике. Все последующие студенческие годы и даже после окончания института мне временами снился страшный сон – тот самый экзамен. Я не знал ответа на вопрос, с ужасом просыпался… и с удовольствием бежал на работу в ненавистную ночную смену.
Учили нас на уровне. Среди преподавателей удачно сочетались теоретики и практики. Лауреатские знаки и ордена за литые башни танка Т-34, за уралмашевские «самоходки» и лысьвенские каски впечатляли. Рядом подрастала яркая молодежь. Производственной практикой на «Магнитке» руководил ассистент Поздеев. В 1965 году молодой профессор Александр Поздеев выступит первым официальным оппонентом моей кандидатской диссертации. В истории пермской науки он оставил добрый след: основал первый в Перми академический институт механики сплошных сред, стал членом-корреспондентом АН СССР.
Без особого восторга вспоминаю «общагу», но с теплотой – соседей по ней. Особенно «стариков», ребят, прошедших фронт, которые были старше нас на целых… десять лет! Среди них выделялся обладатель редкого баса, хохмач Олег Буторин. Удивительно, но при всей своей «несерьезности», в 1980-е годы он был назначен первым секретарем Лысьвенского горкома партии.
В советские времена существовала одна протокольная тонкость. Если из жизни уходило лицо первой величины, то некролог публиковался с указанием фамилий «подписантов». Последовательность фамилий в первой десятке четко показывала вес того или иного руководителя во властной иерархии. Остальные шли по алфавиту. Если же некролог был посвящен фигуре не из «высшей лиги», то подпись была стандартная: «группа товарищей».
После окончания третьего курса, преодолев учебный экватор и надеясь на свои спортивные заслуги, я, вместе с подобной мне «группой товарищей», счел, что могу проигнорировать поездку в колхоз на уборку картофеля.
То ли с уборкой, то ли с урожаем в том году случился сбой, по властной вертикали сверху вниз посыпались взыскания. Вспомнили и о нас. И выгнали из общежития. Это событие позволило мне ближе узнать Анатолия Федоровича Захарова.
Почти всегда в моем поле зрения оказывались люди, которые были симпатичны, с которых хотелось брать пример (в целом или в чем-то важном для меня), до уровня которых я на тот момент не был способен дотянуться… Потом разрыв мог сократиться, но чувство уважения оставалось. Как отношение к настоящему учителю пусть ушедшего дальше, поднявшегося выше, но настоящего ученика. Оглядываясь назад, уверенно могу сказать, что эти люди оказали большое и однозначно положительное влияние на мой характер, на мою судьбу.
Анатолия Федоровича (АФ) я впервые увидел, когда он работал, как и мой отец, начальником цеха Чусовского завода. Только отец командовал дуплексцехом, а Захаров – доменным. Было мне в ту пору лет 10–12, и проблема «кто есть кто», признаться, не очень-то интересовала. Отцы общались не только на работе. Так я познакомился и подружился с сыном Захарова – Сергеем, стал бывать у них в семье. Сергей был младше меня, так что на меня была возложена функция «шефа». Возложена, прежде всего, АФ, который уже в те годы проявлял ко мне какую-то доверительность, серьезность. Я гордился этим как минимум по двум причинам. Не знаю, по каким признакам, но чувствовал, что АФ был, как потом стали называть, одним из «неформальных лидеров» чусовской элиты. Лидером-гусаром! Но это на подсознательном уровне. Главное же лежало на поверхности: ко мне благоволил владелец, наверное, единственного в Чусовом трофейного мотоцикла «Харлей»!
Через пару лет АФ был назначен директором небольшого отстающего Старотагильского металлургического завода и вывел его в лидеры. Последовало повышение – начальником Главуралмета. Жили Захаровы теперь в Свердловске. Приехав поступать в УПИ, я пару недель провел у них. Опять короткие беседы с АФ, ощущение, что ты чем-то ему интересен. Не знаю, что это было – ответная реакция на чувство почитания, уважения к нему? Или проверка своих задумок на не только «свежей» [9], но и юной голове? Темы были разные, серьезные и не очень. Одна касалась внедрения новой системы связи между заводами и Главком. АФ рассказывал ее суть (кстати, понятную), приводил доводы того или иного скептика и спрашивал: «Ты с ним согласен?» Точно помню, что один раз я поддержал не АФ, а его оппонента. После этого он убеждал уже меня…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: