Владимир Зёрнов - Записки русского интеллигента
- Название:Записки русского интеллигента
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-85759-319-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Зёрнов - Записки русского интеллигента краткое содержание
Владимир Дмитриевич Зёрнов (1878–1946), доктор физико-математических наук, один из семи первых профессоров-учредителей Саратовского университета, прожил яркую, интересную жизнь. Значимость его фигуры как физика и ученика П. Н. Лебедева, а также как педагога, несомненна. Но в ещё большей степени современному читателю будет интересно и поучительно узнать из воспоминаний учёного, как жил типичный представитель интеллигенции в России до и после 1917 года, насколько широк был круг интересов и знакомств человека науки, как формировалась его личность и протекала его деятельность.
Для широкого круга читателей, интересующихся историей российской интеллигенции, вопросами культурного, научного и общественного процессов конца XIX – начала XX вв. как внутри России, так и за её пределами.
Записки русского интеллигента - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Был такой «процесс промпартии» {617}, и во всех учреждениях происходили собрания, на которых было принято требовать смертной казни для членов промпартии. Состоялось такое собрание и в исследовательском институте. Председательствовал на нём директор института Гессен {618}. Большинство членов института более или менее удачно обходили вопрос о смертной казни, но звучали и весьма «подхалимские» речи. Не хочу называть имён – люди ещё живы, и многие из них сейчас занимают крупные посты {619}.
Как известно, одну из главных ролей в промпартии играл профессор Рамзин. Он долго был репрессирован, но впоследствии освобождён и, более того, награждён {620}. Не знаю, приходилось ли людям, требовавшим для него смертной казни, встречаться с этим человеком, и если да, то как они при этом себя чувствовали?
В своём выступлении на этом «обличительном» собрании я сказал, что Советская власть так себя зарекомендовала и в настоящее время так сильна и устойчива, что я «удивляюсь» членам промпартии, если они действительно организовали заговор против власти! Гессен оборвал меня и заявил, что надо не удивляться, а возмущаться. Говорил он очень резко и закончил заявлением, что мне с ним, Гессеном, «не по дороге».
На другой день я подал в президиум исследовательского института заявление с просьбой освободить меня от звания и обязанностей действительного члена. Через некоторое время Гессен был снят с должности директора института, арестован и, по-видимому, «ликвидирован». По крайней мере, больше он уже не появлялся и никаких официальных сведений о его судьбе не было {621}. Хорошо, что мне с ним оказалось «не по дороге».
Я невольно перестал в моих воспоминаниях держаться хронологического порядка…
С Ломоносовским институтом я был связан до самого конца его пребывания в Благовещенском переулке. От него отпочковался Институт сельскохозяйственного машиностроения, который поместился в Черёмушках, и там кафедру получил мой ассистент Б. И. Котов. Позже Ломоносовский институт как-то исчез и восстановился сначала при каком-то заводе, а на его месте появилась Военная академия моторизации и механизации {622}. Я в это время был занят главным образом Путейским институтом {623}и институтом имени Плеханова {624}. В Военную академию устроился Котов, но она в Благовещенском переулке просуществовала несколько месяцев и выехала в Лефортово, а на месте её в Благовещенском переулке в 1932 году появилась Военно-транспортная академия {625}, и профессорами в неё были приняты почти сплошь одни профессора МИИТа, в том числе и я. Потом, в 1937 году, Военно-транспортная академия переехала в Ленинград, а на её место из Ленинграда прибыла Военно-политическая академия {626}. В последней кафедры физики уже не было, но мы продолжали жить в Благовещенском переулке. Военно-политическая академия пыталась нас, правда, выселить, но никакого другого помещения она предоставить нам не могла, и мы занимали там свои квартиры до 1941 года.
В весеннем полугодии 1924 года я сильно захворал, а после выздоровления я подал заявление об уходе ректору II университета Намёткину и по конкурсу получил кафедру в теперешнем МИИТе {627}. Если в МИИТе и есть недостатки, то, по крайней мере, там я сам себе голова и никаких «партнёров» на кафедре нет. В таком же положении я себя чувствую и в МВТУ, где я взял совместительство после переезда Военно-транспортной академии в Ленинград {628}.
Дело об «оскорблении» Чувикова
Это было в году 1923-м {629}. Яблочный сад в то время находился ещё в нашем распоряжении и мы по мере возможности охраняли яблоки от разграбления. В особенности надо было ожидать усиленного грабежа ночью под второй (яблочный) Спас. Я попросил нашего сторожа Егора {630}подежурить ночью в огороде, где росли особенно сладкие соблазнительные яблоки.
Андрей Чувиков, в это время уже вполне «освоивший» дом, в котором он жил как наш служащий (от серпуховских властей он получил удостоверение, что этот дом принадлежит ему) {631}, состоял в сельской пожарной дружине, чуть ли не был её начальником. Деятельность пожарной дружины проявлялась прежде всего в том, что старенькая пожарная машина, с которой я в былые годы многократно участвовал в тушении пожаров, которая в полной готовности с дюжиной брезентовых вёдер стояла в сарайчике около нашего дома, была «обобществлена». Я долго не мог добиться, куда она последовала. И только несколько лет спустя, когда в Ермолове прорвало плотину и обнажилось дно пруда, я обнаружил остатки нашей машины. Правда, тогда существовала общественная машина, которая стояла в сарае, помещавшемся на бугре против церкви. По правилам всё оборудование должно было быть всегда наготове. Но каждый раз, когда где-нибудь в соседней деревне возникал пожар и надо было выезжать с машиной, оказывалось, что что-нибудь исчезло – то упряжи нет, то у телеги, на которой стояла машина, не хватает колеса. Тогда подымался крик, все бегали, и выезд задерживался, и я всегда с моей машиной прибывал на место пожара раньше, чем общественная машина.
Так вот, Егор вечером пятого августа отправился в огород на сторожбу. Когда стемнело, Егор, чтобы обнаружить свою бдительность, развёл небольшой костёр.
Сижу я дома и слышу, на огороде какой-то шум, крик. Я отправился посмотреть, что там происходит. Подхожу и вижу, что около костра собралось несколько ребятишек, а Егор препирается с Чувиковым, который требует в качестве начальника пожарной команды, чтобы костер был потушен, так как от него-де может произойти пожар. И хотя я видел, что никакой возможности возникновения пожара не было – костер находился далеко от нашего сарая и тем более далеко от дома Чувикова, но чтобы прекратить весь этот шум, велел Егору либо загасить костёр, либо перенести его в то место, которое укажет «начальник пожарной дружины». Сделав это распоряжение, не вступая в дальнейшие разговоры, я развернулся и пошёл домой. На плотине я встретил Митюню, который бежал, чтобы принять участие в событии. Я взял его за руку и говорю:
– Пожалуйста, не связывайся, ты знаешь, с кем имеешь дело!
– Известно, со сволочью, – ответил он и пошёл со мной к дому.
Тогда я не обратил внимания на Митюнин ответ, тем более что мы были уже на значительном расстоянии от огорода и нашего разговора, казалось, никто слышать не мог. Я совершенно забыл о нём. Но через несколько дней является милиционер и спрашивает, не оскорблял ли я Чувикова?
– Нет, – ответил я. – Ни коим образом оскорблять я его не мог, так как ни в какие разговоры с ним не вступал.
Тогда милиционер попросил позвать Митюню и просил его рассказать, как было дело. Митюня (тогда ему было 16 лет) обстоятельно рассказал все, что я сейчас записал, не скрывши и своей реплики. На этом допрос окончился. Но в начале сентября, уже в Москве, мы получили повестки из Серпуховского суда, которые вызывали нас по уголовному делу об «оскорблении» гражданина Чувикова – Митюню как обвиняемого, а меня как свидетеля.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


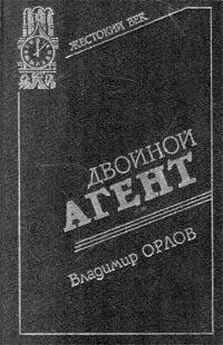
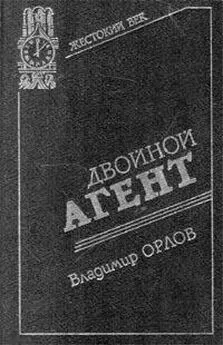

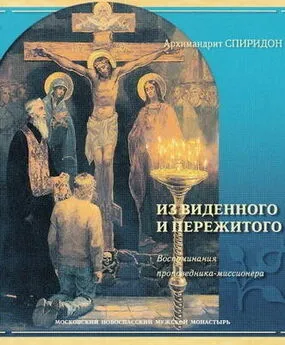
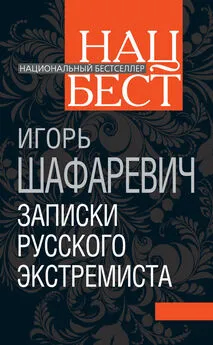
![Юрий Фадеев - Записки «русского азиата». Русские в Туркестане и в постсоветской России [Издание второе, измененное, добавленное]](/books/1069324/yurij-fadeev-zapiski-russkogo-aziata-russkie-v-t.webp)

