Владимир Зёрнов - Записки русского интеллигента
- Название:Записки русского интеллигента
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-85759-319-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Зёрнов - Записки русского интеллигента краткое содержание
Владимир Дмитриевич Зёрнов (1878–1946), доктор физико-математических наук, один из семи первых профессоров-учредителей Саратовского университета, прожил яркую, интересную жизнь. Значимость его фигуры как физика и ученика П. Н. Лебедева, а также как педагога, несомненна. Но в ещё большей степени современному читателю будет интересно и поучительно узнать из воспоминаний учёного, как жил типичный представитель интеллигенции в России до и после 1917 года, насколько широк был круг интересов и знакомств человека науки, как формировалась его личность и протекала его деятельность.
Для широкого круга читателей, интересующихся историей российской интеллигенции, вопросами культурного, научного и общественного процессов конца XIX – начала XX вв. как внутри России, так и за её пределами.
Записки русского интеллигента - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Делать нечего, с утра в назначенный день мы отправились в Серпухов. Тотчас по приезде, уже в здании суда, я обратился к «заступнику» и просил его взять на себя защиту обвиняемого. Не помню фамилии этого милого человека. Он тут же потребовал «дело», пробежал его глазами и с видимым удовольствием согласился.
Мы долго ожидали своей очереди. Наконец, началось наше дело. Помнится, сначала говорил истец. Но Чувикову вовсе не было интересно судиться с Митюней, ему всячески хотелось задеть и опорочить меня. Тут он во всю старался изобразить мои «преступления». Уверял, что я будто бы угрожал сжечь его дом и всю деревню, упоминал, что я в 1921 году сидел в тюрьме, а об Митюне ничего не говорил, – он его и не видал. Потом были допрошены вызванные Чувиковым свидетели. Их было двое. Первый, приятель Чувикова – Пётр Ефимович Михеев. К моему удивлению Михеев заявил, что хотя он и был около костра, но из показаний Чувикова ничего подтвердить не может, так как ничего не слыхал. Так и осталось непонятным, почему Чувиков указывал на него как на свидетеля моих «преступных умыслов». Вторым свидетелем был мальчонка, который, как оказалось, шёл за мной от костра по плотине. Он слышал весь разговор с Митюней и, конечно, передал его Чувикову. И здесь на суде он честно рассказал, как было дело. Затем опросили меня. Я, не отрицая возможности такого разговора, сказал, что так мало придал значения реплике Митюни, что точно и не помню подробностей. Не помню, был ли опрошен «главный обвиняемый»?
Потом судья дал слово защитнику. С тех пор прошло чуть ли не 25 лет, а я до сих пор с удовольствием вспоминаю блестящее, остроумное выступление настоящего адвоката:
– Граждане судьи! Позвольте мне, прежде всего, охарактеризовать личность истца. Вы видели, что Чувиков непременно хочет опорочить и не обвиняемого вовсе, а его отца. Он напоминает, что Владимир Дмитриевич Зёрнов в 1921 году был арестован, но надо знать, что теперь он является уважаемым профессором двух высших советских учебных заведений! И какое отношение всё это имеет к данному делу? Чувиков уверяет, что профессор Зёрнов «угрожал» пожаром. Но из свидетельских показаний ничего подобного установить нельзя. Но если бы даже допустить, что угроза была сделана, то по советскому уголовному кодексу действие это не карается. Вот, например, я скажу: «Чувиков, я разобью тебе физиономию» – это угроза, но я за неё не караюсь. Другое дело, если бы я действительно разбил ему физиономию! Таким образом, Чувикову не удалось хоть сколько-нибудь задеть старого Зёрнова.
– Теперь о молодом Зёрнове. Пусть всё происходило именно так, как рассказывает второй свидетель. Но ведь, сам Чувиков при разговоре не присутствовал. Да почему же Чувиков этот разговор принимает на свой счёт? Ведь из показаний свидетеля не следует, что выражение «сволочь» относится именно к нему – Чувикову. Вот если бы я подошёл к Чувикову и сказал ему в глаза: «Чувиков, ты сволочь», – это было бы оскорблением и я отвечал бы перед судом. Но заочно, неизвестно к кому обращенное слово оскорблением квалифицироваться не может.
– Я утверждаю, что никакого состава преступления нет!
Суд удалился на совещание. Чувиков, по-видимому, был несколько расстроен речью защитника. Но тут появился сын П. Е. Михеева – Пётр, который одно время был у меня в Саратове в качестве препаратора, но вскоре увлёкся партийной деятельностью и стал пропагандистом. Он утешал Чувикова: «Не сомневайся, ты – батрак, а Зёрновы – буржуи», и дальше в том же духе.
Суд совещался очень долго, не менее двух часов. Наконец, вышедший из совещательной комнаты судья объявил приговор: считать обвинение в оскорблении Чувикова Дмитрием Зёрновым доказанным и приговорить подсудимого к штрафу в размере 10 рублей {632}.
Я рад был, что кончилась вся эта канитель. Но всё-таки мне был неприятен приговор, осуждавший Митюню. И я, рассчитываясь с защитником и благодаря его за энергичное и весьма остроумное выступление, поинтересовался: не находит ли он уместным обжаловать постановление суда. На что он ответил:
– Да что вы, неужели жалко заплатить десятку за удовольствие обругать Чувикова? Я бы и сам десятку заплатил, чтобы ещё раз его сволочью назвать!
Поздно вечером мы были уже дома.
У меня в Саратове в качестве механика работал Ф. Ф. Троицкий, муж дочери Чувикова, я о нём писал уже неоднократное. Это очень хороший человек, и ему было весьма неприятно, что его тесть делает мне всякие пакости. Как-то летом Троицкий приехал из Саратова в Дубну и стыдил Чувикова. Ведь все дети Андрея так или иначе нами были устроены. Оба его сына были устроены мной учениками в механической мастерской Громова и сделались впоследствии хорошими мастерами. В судьбе Матрёши, жены Ф. Ф. Троицкого, я, правда, участия не принимал, но когда она вышла замуж, я взял Фёдора Федосеевича на службу в Саратов и она даже жила первое время в моей квартире. Другие две дочери Чувикова Анюта и Маша жили до замужества у нас в Саратове в качестве горничных.
После разговоров с тестем Фёдору Федосеевичу хотелось, чтобы я пришёл к нему (он останавливался у Чувиковых) пить чай и этим, так сказать, показал, что я предаю забвению все пакости, которые Чувиков мне когда-либо устраивал. Мне не хотелось огорчать Ф. Ф. Троицкого и я исполнил его желание.
Больше столкновений с Чувиковым у нас действительно не было, да он вскоре и умер, а семья его дом продала.
«Музыкальные среды» в Благовещенском переулке {633}
И в это время, как, впрочем, во все другие периоды моей жизни, большое значение имела для меня музыка. Сначала я играл квартет только у Бобковых. Но с февраля 1923 года – и у нас дома. Вторую скрипку играл Вова Власов, альта – Д. Е. Серебряков и виолончель – Д. А. Орлов. Несколько позже, с осени 1924 года, к нам подключился Д. В. Рывкинд, и Вова мало-помалу отошёл от нашего квартета.
Приблизительно в это же время дома у нас организовался молодёжный квартет из Мурашиных университетских товарищей. Мура занимала в нём, как и в небольшом оркестре при университетском клубе, место второй скрипки; немного и я с ними играл. Мураша играла весьма недурно, но, к сожалению, впоследствии она совершенно бросила музыку.
Как-то на Тверской (улица Горького) я встретил одного из сильнейших виолончелистов-любителей доктора В. К. Кайзера, с которым я несколько раз играл в молодости. Мы разговорились; оказалось, что он, полностью реабилитированный, только что вернулся из сибирской ссылки. За это время Кайзер потерял всё своё имущество, в том числе и виолончель (Гранчино), которая была передана в Государственную коллекцию. Виолончель он, впрочем, получил из коллекции обратно, но только в аренду.
После этой встречи мы начали регулярно собираться: один раз у нас, а другой – у Кайзера. Альта в этом составе с самого начала играл Мурашин муж Жора, а вторую скрипку – старинный партнёр Валентина Карловича Ю. Н. Драйзен. Юлиан Николаевич был участником квартета у Н. В. Даля и много играл в старые годы с В. К. Кайзером. Он оказался неплохим скрипичом и исключительно милым человеком. По рождению еврей, он окончил духовную семинарию и филологический факультет университета, сделавшись специалистом по древним языкам. Юлиан Николаевич жил где-то за городом и жил довольно бедно, несмотря на своё высшее образование, – древние языки только ещё начинали восстанавливаться в своих правах. Во время войны он оставался в Москве и в 1942 году умер едва ли не от голода.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


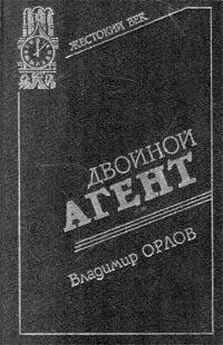
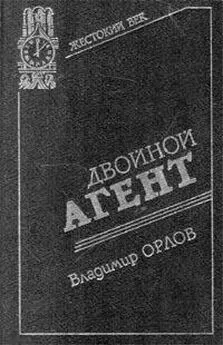

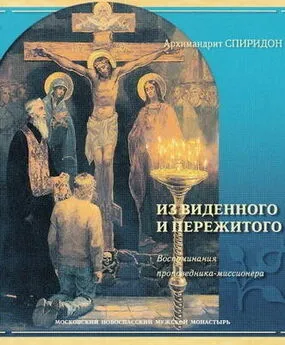
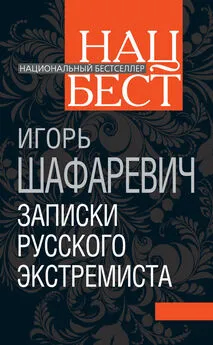
![Юрий Фадеев - Записки «русского азиата». Русские в Туркестане и в постсоветской России [Издание второе, измененное, добавленное]](/books/1069324/yurij-fadeev-zapiski-russkogo-aziata-russkie-v-t.webp)

