Владимир Зёрнов - Записки русского интеллигента
- Название:Записки русского интеллигента
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-85759-319-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Зёрнов - Записки русского интеллигента краткое содержание
Владимир Дмитриевич Зёрнов (1878–1946), доктор физико-математических наук, один из семи первых профессоров-учредителей Саратовского университета, прожил яркую, интересную жизнь. Значимость его фигуры как физика и ученика П. Н. Лебедева, а также как педагога, несомненна. Но в ещё большей степени современному читателю будет интересно и поучительно узнать из воспоминаний учёного, как жил типичный представитель интеллигенции в России до и после 1917 года, насколько широк был круг интересов и знакомств человека науки, как формировалась его личность и протекала его деятельность.
Для широкого круга читателей, интересующихся историей российской интеллигенции, вопросами культурного, научного и общественного процессов конца XIX – начала XX вв. как внутри России, так и за её пределами.
Записки русского интеллигента - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Далее, хотя и не таким крупным, но всё же «событием» было исполнение в Большом зале консерватории симфонической поэмы Листа «Освобождённый Прометей» {651}.
Мои студенты всегда очень интересовались моими музыкальными успехами. У меня хранятся знаки их внимания: дирижёрский жезл из слоновой кости в серебряной оправе, как музыкальный символ [59], книга «Жизнь и творчество Собинова» {652}и полное собрание романсов Балакирева. Эти подарки снабжены дорогими для меня надписями.
Из произведений ораториального типа до войны 1941 года мы исполняли ещё чудесную вещь Римского-Корсакова «Песнь о вещем Олеге» {653}, также очень редко исполняемую. А весной 1941 года впервые в России мы играли «Странствование Розы» Шумана, очаровательное и по музыке, и по теме произведение {654}. Мы исполняли его и в открытых концертах, и два раза на радио. Первый раз на длинных волнах – для России, второй на коротких, буквально за неделю до начала войны, для германских учёных, так во всяком случае трактовалось.
Одно время особенно увлекались самодеятельным искусством. И вот однажды было решено обычный для ноябрьского праздника концерт в Большом театре после торжественной официальной части составить исключительно из выступлений самодеятельных коллективов. Тут были и хоры, и пляски, и сольные выступления. Разумеется, были выбраны лучшие исполнители и коллективы. Самодеятельных симфонических оркестров в Москве было всего несколько, и было решено составить большой «сводный» оркестр. Собралось человек полтораста. Черновые репетиции проводил ассистент Штейнберга, дирижёра Большого театра. Играли мы «Торжественную увертюру» Глазунова. Последняя генеральная репетиция проходила на сцене Большого театра. И так как днём и вечером театр был занят, мы собрались в двенадцатом часу ночи, а домой я попал часа в четыре утра.
Нашим выступлением начинался весь концерт. Театр был переполнен. В левой нижней литерной ложе сидели члены правительства во главе со Сталиным. Но я сидел в первых скрипках спиной к этой ложе и не решался оборачиваться, чтобы рассмотреть наших высоких слушателей {655}.
Другое музыкальное предприятие – поездка в студенческой компании в Ленинград! Случилось это несколько позже, в конце января – начале февраля 1937 года. Я без отрыва от основной своей работы читал лекции в вечернем институте имени Бубнова. Когда же Бубнова «изъяли» из жизни, во всех институтских бумагах его имя густо замарали чернилами {656}. Я уже понемножку устранялся от чтения в нём и передавал дела Е. А. Ляхову, моему ученику по Саратову, но связи с институтом ещё поддерживал.
Студенты этого института как-то просили меня участвовать в их самодеятельном вечере, и мы играли там квартет в составе: я, Мура (вторая скрипка), Жора (альт) и, помниться, Миша Пекарский (виолончель). А потом пристали с уговорами ехать с ними в Ленинград, где в Политехническом институте в Сосновке организовался «слёт самодеятельности студентов машиностроительных ВТУЗов». От МВТУ отправлялся струнный квартет, а от Бубновского института – два неплохих певца (Никитин и Руновский) [60]. Было, конечно, чудновато мне, 59-летнему, участвовать в молодёжном слёте. Однако моё участие давало известное своеобразие самодеятельному коллективу Бубновского института, так сказать, демонстрировало близость студенчества с профессурой, и я согласился. В Сосновке нас встретили очень хорошо, прекрасно разместили и хорошо кормили. Выступали мы в Большом институтском зале и заслужили шумные аплодисменты.
1926 год. Поездка в Крым {657}
Сделавшись профессором Института путей сообщения (1924 год), я получил право бесплатного проезда по железным дорогам {658}, и не только я сам, но и все официально числящиеся на моём иждивении члены семьи. Три раза в год можно было выписывать «разовый» билет хоть до Владивостока и обратно.
Первый раз это право я использовал летом 1926 года. Мне очень хотелось показать детям хоть бы кусочек Крыма. Я выписал билет для всего семейства до Севастополя и обратно. А пожить мне предложил в своём «кооперативном» помещении в Бат-Лимане И. А. Лобко, ассистент Н. В. Кашина.
Бат-Лиман – очаровательное местечко на берегу моря, у Байдарских ворот. До революции тут было разбросано несколько дач, которые оказались без владельцев. Единственный старый хозяин, продолжавший жить в Бат-Лимане, был тесть академика А. Ф. Иоффе. Остальные же дачи были предоставлены учительскому кооперативу, членом которого и состоял Лобко. Кстати, он располагал верхним этажом дачи, прежде принадлежавшей Врангелю, но, кажется, не тому генералу, который стоял во главе войск, воевавших с частями Красной Армии в Крыму {659}.
До начала августа мы прожили в Дубне. Именно в начале этого лета я получил некоторую сумму денег за издание папиной «Анатомии» {660}и почти всё истратил на ремонт дубненского дома [61]. Мы выехали числа 27 или 28 июля. Я с волнением ожидал, когда появится полоска моря перед Севастополем по правую сторону железной дороги и какое произведёт впечатление на ребят, но и Митюня отнёсся довольно равнодушно к «свободной стихии», и девочки в восторг не пришли. Да, с морем надо сначала познакомиться близко, тогда эта полоска на горизонте может вызвать и волнение.
В замечательной панораме «Оборона Севастополя» {661}мы были на обратном пути. В своей жизни я видел две панорамы. И обе оставляли громадное впечатление. Первая, ещё в мои гимназические годы, «Голгофа» Яна Стыка была устроена в здании около Московского цирка на Цветном бульваре {662}. Обе панорамы устроены были одинаково. Зрители помещаются на возвышении посредине громадного цилиндрического здания – как бы на плоской крыше дома, на первом плане постройки и фигуры изображены в натуральную величину, а второй план и даль изображены на огромном полотне, охватывающем всё здание. Получается впечатление полной реальности {663}.
Далее из Севастополя ехали местами, где когда-то происходили бои и где осталось лежать много и наших, и врагов – и все они объединены общей участью. Наконец, по плохому шоссе, идущему зигзагами, мы потихоньку спустились к дачному посёлку. Дачка оказалась очаровательной. Буквально в одной минуте от берега моря. А лес – до самой воды. Очень милое семейство Лобко – там была его жена с двумя детьми. Нам предоставили две комнаты. Правда, никакой обстановки в комнатах кроме топчанов не было. Набили соломой мешки – вот и вся обстановка. Но элементарность обстановки вполне искупалась чудесной нетронутой природой и дивным морем. Имелись отдельные маленькие пляжи, отгороженные друг от друга скалами. Был и более просторный общий пляж, но все предпочитали отдельные маленькие пляжи, где можно было купаться без специальных купальных костюмов. Питались мы в центральной даче. Кормили не Бог знает как, но зато это стоило какие-то гроши – чуть ли не по рублю в день с человека. Была и лавчонка, где можно было кое-что подкупить.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


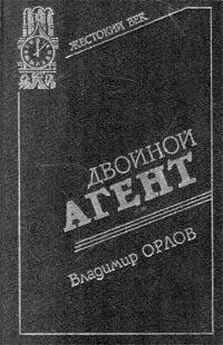
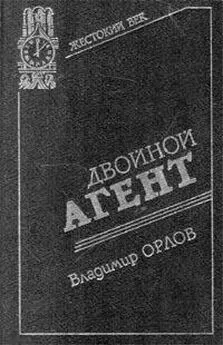

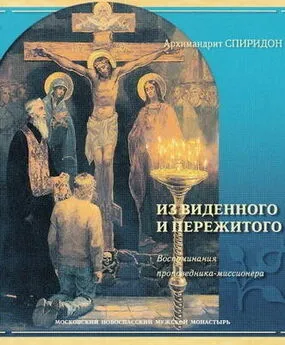
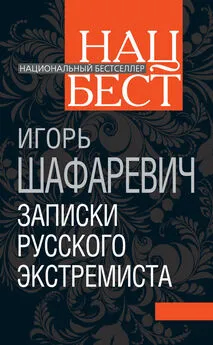
![Юрий Фадеев - Записки «русского азиата». Русские в Туркестане и в постсоветской России [Издание второе, измененное, добавленное]](/books/1069324/yurij-fadeev-zapiski-russkogo-aziata-russkie-v-t.webp)

