Владимир Зёрнов - Записки русского интеллигента
- Название:Записки русского интеллигента
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-85759-319-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Зёрнов - Записки русского интеллигента краткое содержание
Владимир Дмитриевич Зёрнов (1878–1946), доктор физико-математических наук, один из семи первых профессоров-учредителей Саратовского университета, прожил яркую, интересную жизнь. Значимость его фигуры как физика и ученика П. Н. Лебедева, а также как педагога, несомненна. Но в ещё большей степени современному читателю будет интересно и поучительно узнать из воспоминаний учёного, как жил типичный представитель интеллигенции в России до и после 1917 года, насколько широк был круг интересов и знакомств человека науки, как формировалась его личность и протекала его деятельность.
Для широкого круга читателей, интересующихся историей российской интеллигенции, вопросами культурного, научного и общественного процессов конца XIX – начала XX вв. как внутри России, так и за её пределами.
Записки русского интеллигента - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, всё благополучно уладилось, и я на другой день выехал в Петроград, но уже никакой комиссии не застал. Оказалось, она заседала один день. Всё заранее было подготовлено. Я побывал у председателя комиссии, какого-то почтенного адмирала {490}, объяснил ему причину своего опоздания, завтракал с его семейством, очень простым и симпатичным, и, не задерживаясь, возвратился в Саратов.
П. П. Заболотнов без блеска, но вполне благополучно правил университетом до сентября 1918 года – законное «трёхлетие» {491}, после чего абсолютно отказался от вторичного избрания. Тут наступали бурные времена, и удерживать в равновесии университетский корабль старому уже Заболотнову было не по силам.
Дубна 1917 и 1918 годов. Настя (Кусенька)
Лето 1917 года мы первый раз проводили в Дубне без папы. Было очень грустно видеть Дубну по-прежнему такой, какой её любил папа, все его посадки, все его вещи стояли на местах, а его самого уже не было.
Я вошёл в его кабинет, сел в его самодельное кресло за его письменный стол, за которым он сидел так много лет, и не мог удержать слезы и долго плакал, как плачут дети. Я благодарю Бога за то, что он дал мне таких родителей, что он дал мне великую любовь к ним, что он научил меня любить и мою семью. Я уверен, что отношения мои с моими родителями дали и те отношения, которые существуют у меня с моими детьми.
Лето 1917-го и лето 1918 годов ещё не внесли радикальных изменений в дубненскую обстановку. Тогда ещё только шёл разговор об изъятии из пользования «новой земли» – 6 десятин, которые папа в последнее время прикупил к 10 десятинам усадьбы {492}. Эти 6 десятин примыкали к усадьбе, и папа купил «новую землю» с тем, чтобы сеять там овёс и клевер. И о саде ещё никто не подымал вопроса. Кучер Чувиков и его жена числились моими служащими и получали от меня жалованье.
После смерти папы Настя (Кусенька) и Елена переехали в Дубну. Настя, поселившись во флигеле, так там и оставалась до своей смерти. Она прожила в нашем семействе 51 год. С нашего возвращения в Москву в 1921 году и до осени 1927 года Настя заведовала кухней, и каждый вечер, надев накрахмаленный чепчик и белый фартук, она являлась к Катёне «к приказанию», как она сама говорила, – обсудить, что готовить на завтра. Настя говорила, что её главное желание – дожить до пятидесятилетнего «любилея», исполнявшегося в ноябре 1927 года. Вместе с Настиной племянницей Грушей я ездил в этот день в Дубну и отвёз ей кое-какие подарки, конечно, пустяшные, – времена были уже трудные. За 25 лет службы Настя получила от папы золотые часы с надписью и золотой крючок в виде брошки для того, чтобы вешать их на платье. Часы эти Настя завещала Мурочке.
Настю деревенские любили, и последние годы ходили к ней лечиться, она хорошо умела делать компресс, лечила какими-то травами, припарками, умела сделать перевязку. Состоя при маме долгие годы, она научилась многому и вообще была умной женщиной. Дети мои её тоже очень любили и звали всегда непременно «Кусенькой».
Когда мы в 1928 году приехали в Дубну, Настя была совсем слаба. Я вызывал к ней доктора, сына крестьянина из Дубны Ивана Алексеевича Теремова, но помочь Насте было невозможно. По-видимому, у неё был рак какого-то внутреннего органа. Она понимала, что умирает, и когда ей было совсем плохо, она брала в руки зажжённую восковую свечу, как в старину, но потом ей опять делалось лучше, и она её гасила.
По старому обычаю её «соборовали». Собственно, «соборование» – это вроде молебна о выздоровлении больного. Но так как эту службу совершали обычно у постели тяжелобольного, когда не было уже надежды на его выздоровление, то «соборование» в представлении простонародья превратилось в какое-то предсмертное богослужение. Незадолго до Настиной смерти я сидел около неё, она делала распоряжения, как поступить с её имуществом. Я не знал, как облегчить её последние минуты и, так как она, как мне казалось, ждала смерти как облегчения от страданий, сказал ей:
– Вот ты скоро увидишь маму и папу.
А она строго посмотрела (пожалуй, даже зло) и говорит:
– Никого не увижу!
Я понял, что она, по существу, не была верующим человеком. Мы похоронили Настю около церкви. Поминальный обед по старому обычаю был устроен на весь приход. Обедали в несколько смен. Варили и лапшу, и щи, подавали жареную баранину, два сорта каши и кутью, пиво, чай с булками. Словом, всё по старинным деревенским обычаям. До войны 1941 года сохранялся холмик и крест с надписью. Сейчас (1946 год) и могила затоптана, и ограда у церкви уничтожена, да и сама церковь разграблена и запакощена.
Новые факультеты. Деканство
Открытие новых факультетов Саратовского университета задерживалось. Проектирование новых зданий прекратилось с началом войны 1914 года. Мы несколько раз ходатайствовали об открытии факультетов {493}. Физический институт был уже готов, помещение бывшей Фельдшерской школы у Царских ворот осталось за университетом, можно было при желании и ещё найти помещения, но дело не двигалось.
Когда организовалось Временное правительство, мы снова ходатайствовали, обращались к А. Ф. Керенскому, который возглавлял это правительство. И вот, наконец, с осени 1917 года новые факультеты были открыты {494}. Так как кафедры физико-математического факультета уже отчасти были налицо, нам было разрешено выбрать декана и секретаря факультета из своей среды.
В то время имелись следующие кафедры: физики (ею заведовал я), химии (Р. Ф. Холлман), зоологии (Б. И. Бируков), ботаники (Д. Э. Янишевский, а А. Я. Гордягин был уже переведён в Казань). На первом курсе естественного факультета читался также курс анатомии, однако профессор анатомии в состав членов физико-математического факультета не входил.
Деканом был выбран я, секретарём факультета – Р. Ф. Холлман {495}. Не хватало пока что профессоров математики, механики, второго физика (на кафедру теоретической физики), метеорологии; имелся только один профессор химии, а надо было ещё и органика. Я начал переписку по поводу приглашения математиков с моим бывшим учителем профессором Московского университета Д. Ф. Егоровым, который в то время являлся самым крупным математиком в Москве. Он порекомендовал нам прекрасных математиков – В. В. Голубева и И. И. Привалова. Они приехали в Саратов к началу второго семестра. Когда новые профессора начали читать, все сразу же по заслугам оценили прекрасных учёных и лекторов. Позже они сами привлекли на факультет Г. Н. Свешникова, тоже очень талантливого математика.
Не помню, объявляли ли мы конкурсы, но я независимо от этого обращался к Н. Д. Зелинскому (я был у него на квартире), и он рекомендовал на кафедру органической химии своего ученика (не могу вспомнить его фамилию), который долго, уже и после меня, оставался в Саратове {496}.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


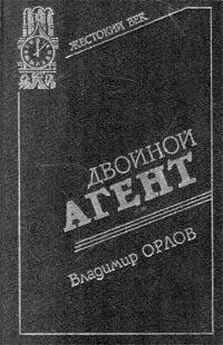
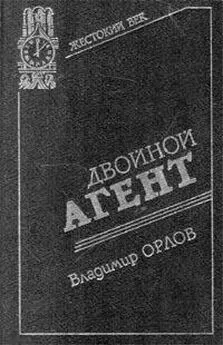

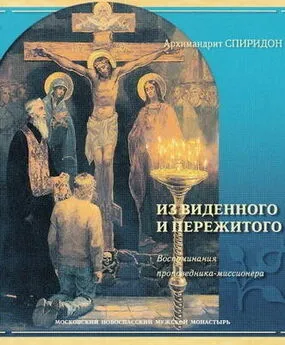
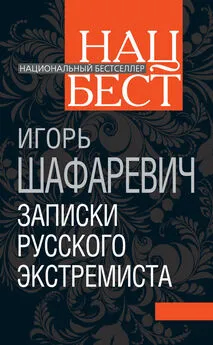
![Юрий Фадеев - Записки «русского азиата». Русские в Туркестане и в постсоветской России [Издание второе, измененное, добавленное]](/books/1069324/yurij-fadeev-zapiski-russkogo-aziata-russkie-v-t.webp)

