Владимир Зёрнов - Записки русского интеллигента
- Название:Записки русского интеллигента
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-85759-319-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Зёрнов - Записки русского интеллигента краткое содержание
Владимир Дмитриевич Зёрнов (1878–1946), доктор физико-математических наук, один из семи первых профессоров-учредителей Саратовского университета, прожил яркую, интересную жизнь. Значимость его фигуры как физика и ученика П. Н. Лебедева, а также как педагога, несомненна. Но в ещё большей степени современному читателю будет интересно и поучительно узнать из воспоминаний учёного, как жил типичный представитель интеллигенции в России до и после 1917 года, насколько широк был круг интересов и знакомств человека науки, как формировалась его личность и протекала его деятельность.
Для широкого круга читателей, интересующихся историей российской интеллигенции, вопросами культурного, научного и общественного процессов конца XIX – начала XX вв. как внутри России, так и за её пределами.
Записки русского интеллигента - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я тут же велел заложить «Богатыря» – это моя ректорская лошадь – и, захватив с собою ноты, отправился с Женей Гюнсбургом добывать нефть. В «Райнефти» я отыскал заведующего и сделал вид, что пришёл к нему исключительно для того, чтобы передать ноты.
– Можете себе представить, – обращаясь к нему, произнёс я первую фразу, – перебирал свои ноты и нашёл экземпляр квартета, которым вы интересовались. Поговорили о музыке в самых дружеских тонах, а потом я и говорю:
– Я ведь к вам ещё по одному делу. Нам нужно добавить топлива.
– Да что вы, стоит ли беспокоиться о таких пустяках! Сколько нужно, столько и отпустим! – откликнулся заведующий.
Он тут же написал распоряжение, Женя всё как надо оформил. И мы в тепле докончили год.
Были и такие затруднения: нам очень нерегулярно переводили деньги из Москвы. Иногда привозили кучу «совзнаков», а потом долго ничего не было. Мы неоднократно писали и телеграфировали в Москву. Будто бы об этом докладывали самому Ленину, а он будто бы отвечал: «Ну, умные люди и без денег проживут». И мы действительно жили без денег. В оборот снова пускался спирт. Все кафедры, включая и кафедры филологического и юридического факультетов, под разными предлогами выписывали спирт. Например, такой предлог: спирт необходим для промывки переплётов – это какая-то кафедра филологического факультета выписывала. Дело в том, что в это время получалось много частных библиотек из больших помещичьих усадеб {506}и на промывку старых заплесневевших переплётов, действительно, шла небольшая часть получаемого спирта, большая же часть использовалась гораздо эффективнее.
Мы с Женей Гюнсбургом отправились в «Райспирт» для оформления заявки. Вся заявка была приблизительно на 60 вёдер спирта разной денатурации. Указанных денатурации в «Райспирте» не оказалось, и мы согласились взять наполовину сырца, а остальное ратификатом. Чтобы получить означенный спирт, надо было оставить «Райспирту» 4 ведра, то есть расписаться в получении 60, а фактически получить 56 вёдер. И «Райспирту» надо было как-то существовать! В такие мелочи я уже не вмешивался.
Из-за сильно изменившейся структуры университета осенью 1920 года вновь состоялись выборы ректора. В них, кроме членов Совета профессоров, участвовало и студенчество. Закрытой баллотировки уже не было.
Сами выборы происходили в большой физической аудитории, до отказа забитой публикой. Собственно, трудно было даже установить, кто из собравшихся участвовал в выборах, а кто нет. Не могу вспомнить, был ли кроме меня ещё какой кандидат на пост ректора, но выбрали опять меня – только теперь уже по новому, непривычному для меня способу: назвав моё имя, председательствующий спросил, обращаясь к публике:
– Кто «за»?
Поднялось множество рук, но никто их даже не пытался сосчитать.
– Кто «против»?
Никто рук не поднимает. Та же картина наблюдалась и после третьего вопроса:
– Кто «воздержался»?
В завершение всей процедуры председательствующий объявляет «результат» выборов:
– Избран единогласно!
Несмотря на всё усложнявшиеся условия жизни, занятия в университете продолжались. В 1918 году было объявлено, что двери университета открыты для всех трудящихся {507}.
Когда я вышел на первую лекцию, аудитория была переполнена самой разнообразной публикой, которая, конечно, и не могла, и не думала всерьёз учиться в университете. Мне буквально в громадной аудитории негде было повернуться. Были заняты не только все места и все хоры, но все проходы были забиты народом. Слушатели стояли прямо перед лекционным столом и едва ли не сидели на самом столе. Об лекционных экспериментах в такой обстановке нельзя было и думать. Но наплыв публики быстро таял, и к зиме, как я уже писал, университет замёрз и лекции читались двум-трём десяткам настоящих студентов в кабинете {508}.
Характерный случай произошёл во время моей лекции в большой аудитории. Читаю я лекцию и для какой-то демонстрации затемняю аудиторию. Вдруг с верхнего балкона, который соединял хоры над лекторским столом, прямо передо мной падает какой-то предмет. Я наклонился, поднял – оказывается, револьвер! Чтобы не вызывать разговоров, я, не давая света, вышел из аудитории с револьвером в руках и вижу – с верху бежит ко мне совершенно бледный молодой человек. Оказалось, это был «агент», который должен был следить за моей лекцией. Он стоял на балконе и наклонился через перила, чтобы видеть, что я делаю, а револьвер, который был у него за поясом, что ли, выскочил и упал, чуть было не стукнувши меня по голове. Агент был очень испуган и, ради Бога, просил отдать ему его револьвер и никому не говорить о случившемся, а то-де его выгонят из его высокого учреждения. Мне не хотелось связываться, и я отдал ему револьвер.
Получил я как-то письмо, неизвестный мне автор писал, что он живёт в одной квартире с таким же «агентом» и случайно видел его записную книжку, где были записаны его поднадзорные и между ними значился и я. При этом поднадзорные были характеризованы обычными приметами: «нос обыкновенный, носит бороду, ходит в сером пальто». Думаю, что это было, по крайней мере относительно меня, излишним. Меня в Саратове хорошо знали, тем более что мой большой портрет был выставлен на Немецкой улице в витрине фотографии Шепелева {509}, а какой-то артист театра, изображая профессора Сторицына {510}, даже гримировался под меня.
Ещё во время войны 1914 года, когда Николай Павлович Неклепаев был по нашему ходатайству возвращён с фронта, он организовал при Физическом институте прекрасную мастерскую по изготовлению тончайших измерительных приборов для военного ведомства. Николай Павлович ездил в Москву и привёз оттуда несколько станков, так что в мастерской работало человек 15–20. Удалось вернуть с фронта и Ивана Максимовича Серебрякова, лекционного помощника, и Фёдора Федосеевича Троицкого, механика. И так как мы изготовляли приборы для военного ведомства, то сравнительно легко этих людей нам вернули и больше уже не беспокоили.
Перед их возвращением я оставался с одним служителем Иваном Исаевым, которого тоже хотели взять в армию, но мы послали за подписью ректора телеграмму военному министру, после чего Исаев от призыва был освобождён.
Мне с этим Иваном суждено было играть роль щедринского городничего. Дело в том, что у Исаева в деревне была жена, а он в Саратове сошёлся с одной немкой. Тогда законная его жена, молодая, славная баба, явилась ко мне на квартиру и пожаловалась на свою судьбу, прося вразумить её супруга. Я вызвал Ивана к себе и стал убеждать его словами щедринского городничего:
– На что тебе эта? Смотри, какая у тебя жена, не баба, а печь, а ты! Ах, ты!
Иван моргал глазами и обещал исправиться, но толку из моих увещеваний не вышло. Иван и его немка сохранили ко мне хорошее отношение, и, когда в 1921 году я сидел в саратовской тюрьме, немка по утрам приносила мне с воли горячий кофе, кофейник был завёрнут во что-то тёплое и до меня доходил совсем горячий. Чудные были времена.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


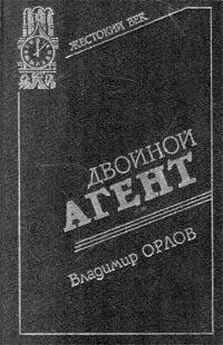
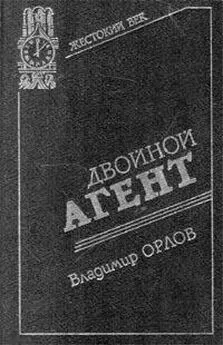

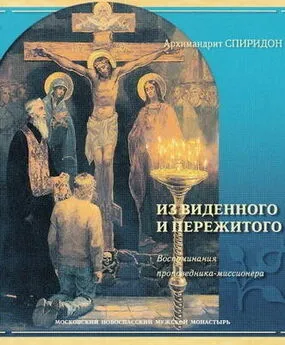
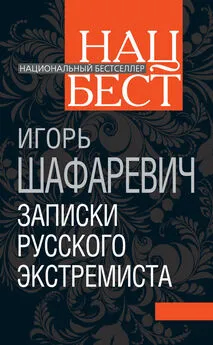
![Юрий Фадеев - Записки «русского азиата». Русские в Туркестане и в постсоветской России [Издание второе, измененное, добавленное]](/books/1069324/yurij-fadeev-zapiski-russkogo-aziata-russkie-v-t.webp)

