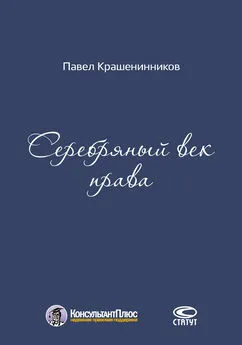Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 1. А-И
- Название:Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 1. А-И
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Амфора. ТИД Амфора
- Год:2007
- Город:СПб
- ISBN:978-5-367-00561-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 1. А-И краткое содержание
«Серебряный век» – уникальное собрание литературных портретов культурных героев конца XIX – начала XX века (поэтов, писателей, художников, музыкантов, представителей театрального мира, меценатов, коллекционеров и др., всего более семисот пятидесяти персон), составленных по воспоминаниям современников. Жанр книги не имеет аналогов, ее можно использовать как справочное издание, в то же время ей присуще некое художественное единство, позволяющее рассматривать целое как своеобразный постмодернистский исторический роман. Книга адресована всем любителям русской культуры Серебряного века.
Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 1. А-И - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
„Петербургский глашатай“ начал выходить, правда, не еженедельно, а когда придется. Внешность его была жалкая – четыре страницы газетной бумаги малого формата, с расплывающейся печатью захудалой типографии. Содержание… Северянин печатал там свои поэзы, Игнатьев – критические статьи и афоризмы. Перо у него было бойкое. За неимением досуга он еще не читал ни Толстого, ни Достоевского, ни даже Пушкина, в чем без особого стеснения признавался. „Зато“ – прочел всего Пшибышевского и „Портрет Дориана Грея“. Лорд Генри особенно его пленил. Он считал себя подражателем уайльдовского героя, только на новый, футуристический лад, что, понятно, еще „шикарней“» (Г. Иванов. Китайские тени).
«Это был холодный дерзатель. Спокойный, трезвый ум, несомненное понимание поставленных перед собой задач и очень маленький талант. Даже странно: всем своим существом Игнатьев был совсем близок к позициям кубофутуристов, а между тем он их ненавидел, в свой журнал не пускал и печатал всякую бесцветную мелюзгу, после того как поссорился с Северяниным, забраковав какую-то „поэзу“ Северянина, и последний перестал давать в „Глашатай“ стихи.
Шум вокруг имени Игнатьева поднялся совершенно неожиданно. В одной из поэм Игнатьев одобрительно отозвался о библейском Онане и об его занятиях. Критика возмутилась и протащила по страницам всех заметок имя Игнатьева. С этого момента Игнатьева узнала широкая публика.
…Однажды я получил от Игнатьева очень жизнерадостное письмо. Он писал, что сделал предложение и скоро женится. Почти немедленно я получил от него телеграмму с просьбой приехать через три дня на его свадьбу. Поехать я не мог. И послал ему поздравительную телеграмму.
Телеграмма через двое суток вернулась обратно, с пометкой: „Не доставлена благодаря смерти адресата“.
После венчанья, обставленного очень торжественно, Игнатьев усадил невесту и гостей за стол, сам во фраке выпил бокал шампанского, поцеловал невесту, вышел в спальню и бритвой перерезал себе горло.
Смерть была немедленная и ни для кого не понятная» (В. Шершеневич. Великолепный очевидец).
Игорь-Северянин
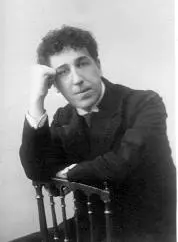
Поэт, мемуарист. Лидер эго-футуризма. Стихотворные сборники «Громокипящий кубок» (М., 1913), «Златолира» (М., 1914), «Ананасы в шампанском» (Пг., 1915), «Victoria regia» (Пг., 1915), «Поэзоантракт» (Пг., 1916), «Тост безответный» (М., 1916), «Поэзоконцерт» (М., 1918), «За струнной изгородью лиры» (М., 1918), «Собрание поэз» (т. 1–4, М., 1918), «Вервэна» (Юрьев, 1920), «Менестрель. Новейшие поэзы» (Берлин, 1921), «Миррэлия» (Берлин, 1922), «Фея Eiole. Поэзы 1920–1921 гг.» (Берлин, 1922), «Классические розы» (Белград, 1931), «Медальоны» (Белград, 1934) и др. Роман в стихах «Падучая стремнина» (Берлин, 1922).
«Лозунгами моего эгофутуризма были: 1. Душа – единственная истина. 2. Самоутвержденье личности. 3. Поиски нового без отвергания старого. 4. Осмысленные неологизмы. 5. Смелые образы, эпитеты, ассонансы и диссонансы. 6. Борьба со „стереотипами“ и „заставками“. 7. Разнообразие метров» (Игорь-Северянин. Судьба поэта).
«Высокий, дородный, несмотря на молодость, он держал голову с подчеркнутой самоуверенностью и произносил свои „поэзы“ певучим, громким голосом» (Б. Погорелова. Брюсов и его окружение).
«Игорь Северянин сразу произвел на меня беспокойное впечатление. Так беспокоишься, когда что-то вспоминается, но знаешь, что не вспомнишь все равно.
…Длинный бледный нос Игоря, большая фигура, – чуть-чуть сутулая, – черный сюртук, плотно застегнутый. Он не хулиганил, – эта мода едва нарождалась, да и был он только эго-футурист. Он, напротив, жаждал „изящества“, как всякий прирожденный коммивояжер. Но несло от него, увы, стоеросовым захолустьем…Игорь Северянин – поет. Не то, что напевно декламирует, а поет, как певец, не имеющий голоса, поет с эстрады романс, притом все один и тот же» (З. Гиппиус. Живые лица).
«Северянин в продолжение десяти лет, а может быть и больше, жил на Подьяческой; это недалеко от центра, а вместе с тем места здесь пахнут захолустно: домишки в два, не более в три этажа, крашенные в желтый екатерининский цвет; квартирные хозяйки – какие-то немки, из романа Достоевского, золотой крендель висит у ворот, а в окнах нижнего этажа цветет герань. Вход в квартиру со двора, каменная лестница с выбитыми ступенями – попадаешь прямо в кухню, где пар от стирки и пахнет жареным, и пожилая полная женщина, темный с цветочками капот, проводит по коридору в кабинет Игоря Васильевича.
…Один или два шкафа с книгами, не то кушетка, не то кровать, на столе, кроме чернильницы и нескольких листов бумаги, нет ничего, а над ним висит в раме под стеклами прекрасный, схожий с оригиналом набросок углем и чернилом работы Владимира Маяковского, изображающий Игоря Васильевича.
Сам Игорь Васильевич сидит за столом, Виноградов, „оруженосец“ Северянина, ходит по комнате. При Игоре Васильевиче всегда, долгое время или кратко, любимый им молодой поэт.
Северянин держит их при себе для „компании“, они – тот фон, на котором он выступает в своих сборниках и во время поэзных вечеров своих.
…Северянин никогда не держал около себя людей с ярко выраженной индивидуальностью. Это были „субъекты“, годные для (необходимых Северянину) случаев, это были хладнокровные риторы, далекие живости северянинской музы.
…У Северянина хороши поза и манера держать себя: он умеет обольстительно ничего не делать, в нем всегда чувствуешь скрытое, внутреннее „парение“, всегда готовое перейти в творчество. Северянин пишет легко.
…Северянин пишет на отдельных листках, почерк пушкинского размаха, хвосты последних слов во фразах идут кверху; если верить наблюдениям графологии, то это обозначает самоуверенный, властный характер, такой почерк был у Наполеона (а Чехов писал своих „нытиков“ потому, что его собственная подпись, подобно японо-китайским письменам, падала сверху вниз).
Северянин в разговоре разочаровывает: он говорит неинтересно, т. е. не настолько, как вправе от него ожидать по его исключительным стихам, и Северянин чувствует это.
Он любит декламировать стихи, но среди чужих, среди публики надо просить долго и прилежно, чтобы Северянин снизошел со своего величественного спокойствия и снисходительных улыбок. Северянин никогда не читает на „бис“, если овация „отсутствует“.
Северянин говорит речитативом, некоторые слова особо выполняя звуком, концы строф выполняются почти козлетончиком. В публике, лишенной трепета поклонения, это могло вызвать непочтительное отношение» (Д. Бурлюк. Игорь Северянин).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

![Георгий Иванов - Кольцо Сатурна [Фантастика Серебряного века. Том XIII]](/books/1087781/georgij-ivanov-kolco-saturna-fantastika-serebryan.webp)
![Александр Грин - Гибель Петрограда [Фантастика Серебряного века. Том XII]](/books/1089598/aleksandr-grin-gibel-petrograda-fantastika-sereb.webp)
![Аркадий Бухов - Машина неизвестного старика [Фантастика Серебряного века. Том XI]](/books/1090072/arkadij-buhov-mashina-neizvestnogo-starika-fantast.webp)
![Иван Бунин - Клуб благотворительных скелетов [Фантастика Серебряного века. Том X]](/books/1090239/ivan-bunin-klub-blagotvoritelnyh-skeletov-fantas.webp)
![Иван Евдокимов - Колдовской цветок [Фантастика Серебряного века. Том IX]](/books/1090472/ivan-evdokimov-koldovskoj-cvetok-fantastika-sereb.webp)
![Василий Немирович-Данченко - Двойная старуха [Фантастика Серебряного века. Том VIII]](/books/1090686/vasilij-nemirovich.webp)
![Николай Федоров - Бомба профессора Штурмвельта [Фантастика Серебряного века. Том VII]](/books/1091862/nikolaj-fedorov-bomba-professora-shturmvelta-fant.webp)
![Аркадий Бухов - Влюбленный призрак [Фантастика Серебряного века. Том V]](/books/1091864/arkadij-buhov-vlyublennyj-prizrak-fantastika-sereb.webp)
![Игнатий Потапенко - Ход больших чисел [Фантастика Серебряного века. Том II]](/books/1091870/ignatij-potapenko-hod-bolshih-chisel-fantastika-se.webp)