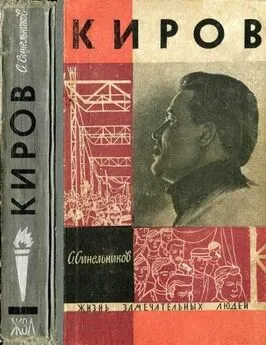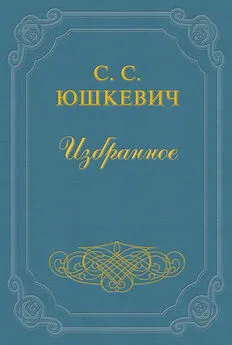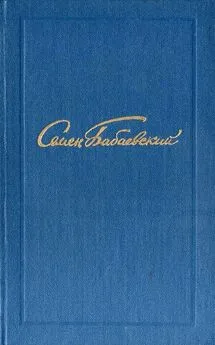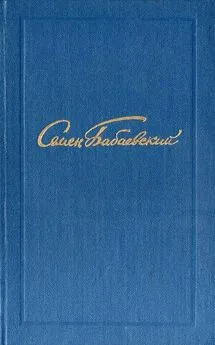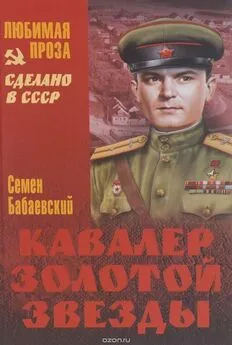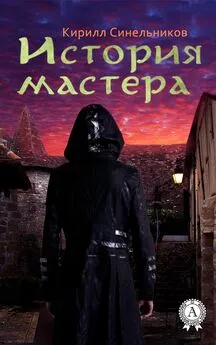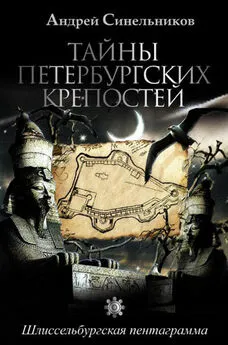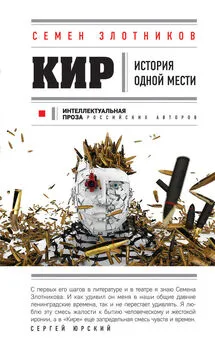Семен Синельников - Киров
- Название:Киров
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1964
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Семен Синельников - Киров краткое содержание
Книга рассказывает про Сергея Мироновича Кирова, выдающегося деятеля Коммунистической партии Советского Союза.
Киров - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Какое ты зрелище пропустил! — встретили его гимназисты, когда он зимним вечером возвратился из училища позже обычного. — Соседний дом горел!
— Зрелище… — устало проронил Сережа.
Гимназисты увидели, что его новенькая форма черного сукна измокла и весь он вымазан в саже: Сережа помогал вытаскивать мебель и вещи из горящего дома.
Но и тогда дети своего времени и своей среды — гимназисты даже не заикнулись, что надо бы перевести Сережу из кухни в комнаты.
Это было в порядке вещей.
Можно выразить суть и по-иному, словами Шуры Ширяевой, ставшей после замужества Александрой Ефимовной Рукавишниковой и спустя шесть десятилетий искренне писавшей:
«Все мы виноваты, мальчики могли бы как-нибудь потесниться, а мы, девушки, быть повнимательнее. Тогда, в 1901 году, это до меня не дошло».
Сережа втягивался в ученье с трудом, хотя никто не мешал заниматься, не отрывал от уроков. Причина была иная.
Среднее техническое образование в России только зарождалось. Казанское соединенное промышленное училище одним из первых начало выпускать механиков и образованных мастеров, машинистов. Соединенным называлось оно потому, что в его стенах спаялись четыре училища: среднее химическое и три низших: механическое, химическое и строительное.
То ли в пику местным промышленникам, из скопидомства не желавшим тратиться на подготовку технического персонала, то ли под воздействием передовых профессоров Казанского университета, ведомство просвещения не пожалело средств на это училище. Раскинувшиеся на двух с половиной десятинах окраинного Арского поля главный корпус, мастерские с собственной электростанцией и газовым заводиком были построены и оборудованы отлично.
Но основанное в 1897 году училище не имело достаточного опыта и чрезмерно загружало подростков. Восемь длинных уроков, правда с двухчасовым обеденным перерывом. Дома сиди еще часа три над заданиями. Многие не выдерживали перенапряжения. Покидали училище или манкировали занятиями, выражаясь по-тогдашнему, и расплачивались встрепками, двойками, второгодничеством.
Сережа, принятый в механико-техническое училище, поначалу тоже очень уставал, но о манкировках не помышлял. Если в детстве он равнялся на приютскую воспитательницу и ее сестру, то теперь примером ему служили преподаватели училища. А они, за некоторым исключением, были как на подбор.
Потомственный инженер Антон Александрович Радциг дома, за телескопом, терял счет часам. Иногда отправлялся на двадцативерстную прогулку, чтобы опять-таки побыть наедине с небесными светилами и своими догадками о них.
Радциг был близорук и забавно рассеян. Формулы и схемы стирал с доски не тряпкой, а обеими ладонями и, очищая их затем от мела, тщательно водил ими по бортам гладко выутюженного форменного сюртука. Но даже озорники не искали в том повода для насмешек. Антону Александровичу прощали и жестковатость в отметках, потому что он принадлежал ученикам больше, чем себе, чутко подмечал и поощрял их успехи. Его глубоко серьезные уроки физики, сопровождаемые почти факирскими по занимательности опытами, запоминались на годы.
Начинающий математик Алексей Лаврентьевич Лаврентьев, будущий профессор Московского университета, был жизнерадостен и покладист. По выражению Радцига, он миндальничал с учениками, порой завышал отстающим отметки. Однако миндальничал поневоле, так как математическая подготовка новичков, особенно крестьян, оставляла желать лучшего. Лаврентьев придумывал остроумные задачи, умел заинтересовать своим предметом, просто и доходчиво растолковать то, что казалось невразумительным в учебниках. Привлекала подростков к Лаврентьеву и его любовь к спорту. Зимой он ходил на лыжах, летом пропадал на Волге, в парусной лодке, вместе с женой и сыном Михаилом, известным ныне математиком, вице-президентом Академии наук СССР.
Запомнился ученикам и преподаватель механики Ипполит Ипполитович Брюно, отлично знавший свой предмет. На занятиях он был прост, рассудителен, не жалел для «механиков» ни сил, ни времени и при первой возможности седлал любимого конька — производственные экскурсии, которые проводил отменно.
Экскурсии были и коньком инженера Павла Ивановича Жакова. Преподавая устройство машин, он заведовал у «механиков» учебной частью и стоял к ним ближе всех своих коллег. Ученики сразу проникались к нему уважением. Русская учебно-техническая литература была нищей в ту пору, некоторые предметы проходили по иностранным, переводным пособиям, а Жаков заменял их собственными литографированными записками. Штудирование аккуратно переплетенных записок дополнялось поездками на предприятия.
Эти поездки с Жаковым и Брюно, утоляя развивающуюся любознательность Сережи, открывали дверь в заветную техническую среду, в которую ему хотелось поскорее войти самостоятельным, независимым человеком.
Внезапно у Сережи началась полоса небывалого везения.
Шура Ширяева собралась уезжать в Ижевск вместе с Людмилой Густавовной, сказавшей, что ей больше незачем держать «ученическую квартиру». Воспользовавшись этим благовидным предлогом, Сережа без промедления переселился в Академическую слободку, потом на Рыбнорядскую улицу, к одноклассникам Мите Асееву и Саше Мосягину.
Учился Сережа день ото дня лучше. Переводные экзамены сдал блестяще. Из сорока первоклассников семнадцать отсеялись или остались на второй год, а среди остальных самым примерным был Костриков.
Каникулы он провел в Кукарке у Глушковых — сюда к матери и сестрам приехала и Юлия Константиновна. Они приняли гостя словно сына. Ни прежде, ни потом, за всю юность, не было у него поры, привольней и беспечней того лета.
Едва Сережа вернулся в Казань, на торжественном акте, посвященном началу учебного года, объявили: он, Костриков, единственный в своем классе, накануне удостоен награды первой степени. Вслед за этим губернская газета «Волжский вестник» черным по белому назвала его, Кострикова, в числе восьми самых лучших из трехсот питомцев промышленного училища.
Начали меняться и порядки в училище. Видя, как пагубна перегрузка учащихся и как им, детям мелких чиновников, ремесленников, крестьян, не хватает общего развития, преподаватели отважились на смелые нововведения. Уроки укоротили, удлинили перемены. Позади главного корпуса залили каток. Создали оркестр, хор и танцевальные кружки.
Коньки были Сереже не по карману, на танцы и оркестровые сыгровки не тянуло, но в хоре он пел охотно. С удовольствием посещал и самодеятельные спектакли, литературные вечера с туманными картинами.
Осенью училищные развлечения померкли. В городском театре играла оперная труппа, гастролировавшая то в Казани, то в Саратове. Эту труппу, а заодно и драматическую, держал известный актер, режиссер и антрепренер Николай Иванович Собольщиков-Самарин. Оркестром руководил Вячеслав Иванович Сук, ставший вскоре главным дирижером Большого театра в Москве, а после Октября — одним из первых народных артистов республики. Попеременно е ним в Казани и Саратове дирижировал оркестром достойный сотрудник этого замечательного музыканту, Лев Петрович Штейнберг, впоследствии народный артист СССР.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: