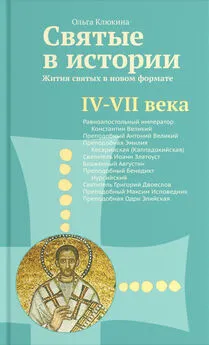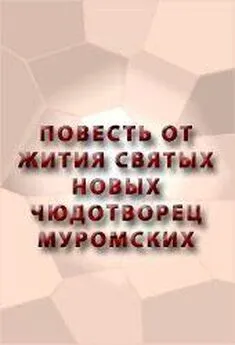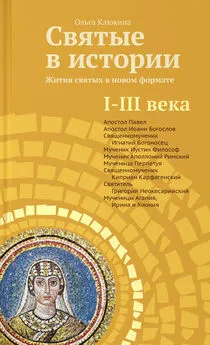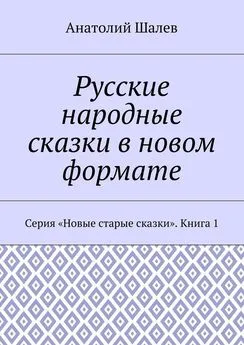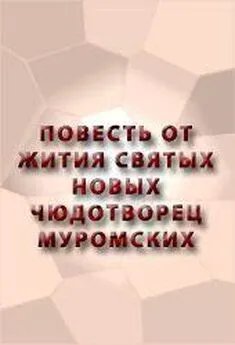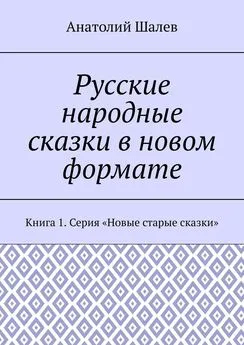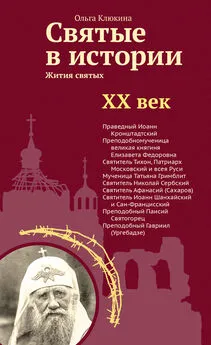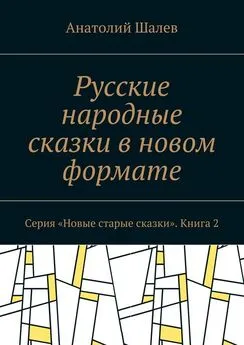Ольга Клюкина - Святые в истории. Жития святых в новом формате. IV–VII века
- Название:Святые в истории. Жития святых в новом формате. IV–VII века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Никея»c7f2fd80-50f1-11e2-956c-002590591ea6
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91761-325-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Клюкина - Святые в истории. Жития святых в новом формате. IV–VII века краткое содержание
В серии «Святые в истории» писательница Ольга Клюкина обращается к историческим свидетельствам, чтобы реконструировать биографии христианских подвижников различных эпох. О святых минувших столетий автор рассказывает живым современным языком, делая их близкими и понятными сегодняшнему читателю.
Вторая книга серии охватывает IV–VII века и посвящена эпохе Вселенских соборов, христианизации варварских народов и становлению монашества.
Святые в истории. Жития святых в новом формате. IV–VII века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Правда, после этого Августина занесло в секту «математиков», где истину искали путем сложных исчислений, но в то время он был горд своей интеллектуальной победой.
Окрыленный успехами, Августин решил заодно освоить и Священное Писание, но не смог его одолеть. Он очень образно описывает в «Исповеди» этот свой юношеский опыт:
«И вот я вижу нечто, для гордецов непонятное, для детей темное, как здание, окутанное тайной, с низким входом, которое становится тем выше, чем дальше ты продвигаешься. Я не был в состоянии ни войти в него, ни наклонить голову, чтобы продвигаться дальше…»
Лишь позднее Августин поймет, что тот «низкий вход», куда можно войти, только склонив голову, – христианское смирение, которого у него тогда и близко не было.
После учебы Августин на какое-то время вернулся в Тагасту, стал преподавать детям риторику.
Отец его к тому времени умер, и, должно быть, на столичную жизнь просто не было денег.
Но Августин нашел возможность снова вернуться в Карфаген. Вместе с ним в большой город перебралась и его мать Моника, здесь жила и его конкубина с сыном – он ни разу нигде не назовет имени этой женщины, с которой был связан около пятнадцати лет.
В Карфагене Августин занялся все тем же – «продавал победоносную болтливость», то есть преподавал риторику. Его любили ученики, да и сам он был талантливым, неординарным учителем, а для многих и добрым другом. Ему было хорошо знакомо это чувство дружбы, когда, словно на невидимом огне, кто-то «сплавляет между собой души, образуя из многих одну».
«Общая беседа и веселье, взаимная благожелательность и услужливость, совместное чтение книг, совместные забавы и взаимное уважение, взаимное обучение…» – вот чем были наполнены его учительские годы в Карфагене.
В этот период он написал и свое первое крупное сочинение «О прекрасном и соответствующем» в двух или трех книгах. Оно было посвящено римскому оратору Гиерию, которого Августин не знал лично, но восхищался некоторыми его изречениями.
«Еще больше нравился он мне потому, что очень нравился другим, и его превозносили похвалами», – признается в «Исповеди» Августин, не сожалея о том, что впоследствии это сочинение куда-то затерялось.
«Человека хвалят – и вот его заглазно начинают любить», – выводит он формулу, которой и теперь активно пользуются современные масс-медиа.
Как-то в Карфаген прибыл известный манихейский «епископ» Фавст, о котором с восторгом говорили «свои». Августин тоже загорелся желанием поговорить с ним наедине на научные темы, и в первой же беседе его поразила необразованность прославленного Фавста. Оказалось, что «посвященный» манихей ни в чем не сведущ, кроме грамматики, да и то только потому, что имел «ежедневную практику в болтовне».
Но в обычной жизни Фавст оказался милым человеком, и когда он с приятной улыбкой сознался, что не силен в науках и ничего не может сказать о луне или исчислении звезд, Августин тут же все ему простил. Они даже подружились, обменивались книгами и с удовольствием беседовали о литературе.
Должно быть, эта встреча помогла Августину почувствовать свою образованность, значимость и подтолкнула его к поездке в Рим. Он уже был вполне состоявшимся, а в своих кругах – известным преподавателем риторики, и Августина все больше раздражали «африканские» нравы карфагенской студенческой молодежи. Школы риторики в то время были частными и платными, и студенты могли бесцеремонно ворваться к любому учителю, дерзили, отказывались выполнять трудные задания.
«С удивительной тупостью наносят они тысячу обид, за которые их никто не наказывает», – вовсе не в прошедшем времени напишет в «Исповеди» Августин о таких студентах.
Да и профессия учителя ему как будто стала уже тесна: «Учась, я не хотел принадлежать к этой толпе, но, став учителем, вынужден был терпеть ее около себя…» По крайней мере, в Риме уроки риторики хотя бы лучше оплачивались.
Мать плакала об отъезде сына и проводила его до самого моря. Она собралась было ехать вместе с ним, но это не входило в его планы.
На пристани Августин отправил ее в гостиницу, сказав, что хочет переночевать в часовне Святого Киприана, а сам ночью сел на корабль, идущий в Остию. На рассвете с попутным ветром он уже плыл в Рим.
Как отмечают исследователи, в своих сочинениях Августин будет часто прибегать к мореходным метафорам – «гавань», «бурное море», «на всех парусах», «встречный ветер», «привести разбитый корабль в желанное затишье», хотя из писем видно, что вообще-то он не очень любил путешествовать.
Это была заветная мечта всей африканской молодежи – переплыть через море и попасть в Рим или Медиолан (Милан), причем в последнем находилась тогда резиденция западного императора.
Августину было двадцать девять лет, и у него в багаже имелись и преподавательский опыт, и амбиции, и умение быстро сходиться с людьми, и нерастраченные надежды.
В Риме он поселился в доме у богатого манихея Константина и почти сразу же заболел лихорадкой. Августин расценил это как Божье наказание за то, что так жестоко обманул мать. Наверное, в эти дни он вспомнил и еще об одном событии из ранней юности…
В Тагасте у Августина был друг детства, с которым он привык делиться своими мыслями и, вернувшись из Карфагена, склонил к манихейству. Этот юноша заболел лихорадкой, и так тяжело, что родственники его уже окрестили. Но вскоре он пришел в себя, Августин зашел навестить больного друга и стал насмехаться над крещением, принятом в бессознательном состоянии, без памяти.
«Он отшатнулся от меня в ужасе, как от врага, и с удивительной и внезапной независимостью сказал, что если я хочу быть ему другом, то больше не должен никогда говорить таких слов» («Исповедь»).
Удивленный Августин увидел, что его друг даже слышать не хочет о манихейском учении, и в тот день быстро от него ушел. А через несколько дней его друг умер от лихорадки.
Смерть сверстника, с которым они вместе выросли и делились своими главными мыслями, буквально обрушилась на Августина. Он никак не мог забыть того выражения лица, с которым обычно покладистый его друг наотрез запретил говорить хоть что-то плохое о Христе. Впервые на Августина навалилась страшная тоска.
«Куда бы я ни пошел, всюду была смерть. Родной город стал для меня камерой пыток, отцовский дом – обителью беспросветного горя». И это стало одной из причин, которая заставила его снова уехать в Карфаген. А теперь он думал, куда бы ему сбежать из Рима.
Историк Аммиан Марцеллин не пожалел красок, чтобы изобразить нравы римлян того времени. Он описал дома патрициев, украшенные роскошными мраморными статуями и мозаикой, где библиотеки с томами редких книг герметически закрыты и выглядят как гробницы. И пиршественные обеды в этих домах, на которые собираются толпы игроков в кости и всевозможных бездельников, восхваляющих богатство хозяина и целующих ему колени.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: