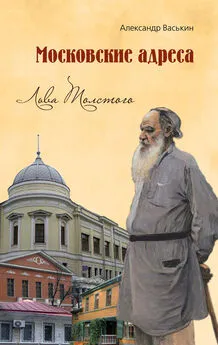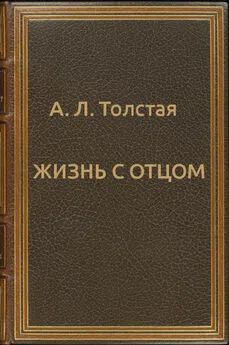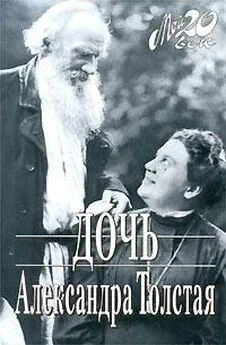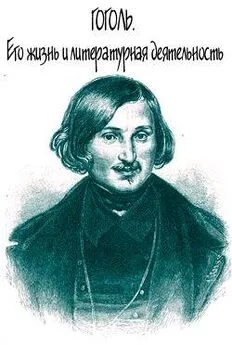Александра Толстая - Отец. Жизнь Льва Толстого
- Название:Отец. Жизнь Льва Толстого
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книга
- Год:1989
- ISBN:5-212-00242-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александра Толстая - Отец. Жизнь Льва Толстого краткое содержание
Книга написана младшей дочерью Толстого — Александрой Львовной. Она широко использует документы, письма, тексты Толстого. Однако книга ценна и личными впечатлениями Александры Львовны. С большим тактом, глубиной и пониманием пишет она о семейной драме Толстых. А. Л. Толстая сумела показать на довольно небольшом пространстве, выбрав самое главное из необозримого количества материала и фактов жизни Льва Толстого, невероятную цельность, страстный поиск истины, непрерывное движение духа писателя–творца в самом высоком смысле этого слова.
Печатается по изданию: Издательство имени Чехова, Нью—Йорк, 1953 год
Данное издание полностью его повторяет, сохраняя особенности орфографии и синтаксиса автора.
Ещё книги о Толстом (в т. ч. Александра Толстая «Дочь») и писания Льва Толстого берите в библиотеке Марселя из Казани «Из книг» и в «Толстовском листке» Вл. Мороза.
Отец. Жизнь Льва Толстого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Отец считал, что простой народ неизмеримо выше и мудрее интеллигенции, которая бралась учить его и устраивать его жизнь. 31 июля 1905 г. отец записал: «Интеллигенция внесла в жизнь народа в сто раз больше зла, чем добра».
С беспокойством отец следил за растущим революционным настроением в народе. Всё чаще и чаще отец сталкивался с людьми, отрицающими Бога, материалистами, революционерами, и разговоры с этими людьми всегда расстраивали его,
«Нынче был еврей, — записал он в дневнике 9 сентября 1905 года, — корреспондент «Руси». В конце разговора, вследствие моего несогласия с ним, он сказал: «Этак вы и убийство Плеве признаете нехорошим». Я сказал ему: «Жалею, что говорил с вами», и с раздражением ушел, т. е. поступил очень дурно».
Становилось все тревожнее и тревожнее… Стачки, студенческие беспорядки. Отец получал все большее количество обличительных писем с требованием раздать землю, которою он не владел, крестьянам.
«У тебя, говорят, есть земля, даже много земли; — отдай же ее тем, которые своим потом удобряют ее, — писал ему один крестьянин. — Начни, сделай то, о чем проповедуешь, великий старче! Твоему примеру последуют и другие. Прими истинное почтение и уважение от крестьянина Григория Чечуги».
23 сентября 1905 г. — «Кончил «Конец века»… Сейчас — утро — письмо от интеллигентного сына крестьянина с ядовитым упреком, под видом похвалы «Великому Греху», что я сам не отдаю свою землю. Ужасно стало обидно. И оказалось на пользу. Понял, что я забыл то, что живу не для доброго мнения этого корреспондента, а перед Богом. И стало легко и даже очень. Да, никогда не забывать всю серьезность жизни».
14 сентября 1905 года отец написал письмо вел. князю Николаю Михайловичу, с которым он иногда переписывался:
«…В наших отношениях есть что–то ненатуральное и не лучше ли нам прекратить их. Вы — великий князь, богач, близкий родственник государя; я — человек, отрицающий и осуждающий весь существующий порядок и власть и прямо заявляющий об этом. И что–то есть для меня в отношениях с вами неловкое от этого противоречия, которое мы как будто умышленно обходим. Спешу прибавить, что вы всегда были особенно любезны ко мне и что я только могу быть благодарен вам. Но все–таки что–то ненатуральное, а мне на старости лет всегда особенно тяжело быть не простым. Итак, позвольте мне поблагодарить вас за вашу доброту ко мне и на прощание дружески пожать вашу руку». [125] Два года спустя отец написал вел. князю: «28 февраля 1908 года…. Мне теперь совестно вспоминать о моем письме 1905 года. Теперь я бы не написал этого. Вы не можете представить, как изменяется жизнь, приближаясь к старости, т. е. к смерти… Теперь же мне дороже всего любовное общение со всеми людьми, безразлично кто они, цари или нищие…»
Великий князь ответил отцу 1 октября из Петербурга:
«…Я вполне подчиняюсь вашему решению, но с глубокой болью в душе, потому что люблю вас всем моим сердцем и буду просить вас хоть изредка обращаться к вашей духовной помощи в наше безотрадное время. Вы вполне правы, что есть что–то недоговоренное между нами, но смею вас уверить, что, несмотря на родственные узы, я гораздо ближе к вам, чем к ним. Именно чувство деликатности вследствие моего родства заставляет меня молчать по поводу «существующего порядка и власти», и это молчание еще тяжелее, так как все язвы режима мне очевидны и исцеление оных я вижу только в коренном переломе всего существующего. Еще жив мой престарелый батюшка, и из уважения к его личности я должен быть осторожным, чтобы не огорчить своими действиями и суждениями старика. Не сомневаюсь, что вы поймете эти чувства сына к отцу. Итак, до свидания, милейший Лев Николаевич, говорю до свидания, а не прощайте, потому последнее выражение для меня слишком тяжело. Так же крепко жму вашу руку и прошу не изменять ваших чувств ко мне, которые ценю особенно нервно. От всей души обнимаю вас мысленно. Да хранит вас Господь! — Сердечно любящий вас Николай Михайлович».
Ровно через месяц отец записал 23 октября 1905 года:
«Революция в полном разгаре. Убивают с обеих сторон. Выступил новый неожиданный и отсутствующий в прежних европейских революциях элемент — «черной сотни», «патриотов»: в сущности, людей, грубо, неправильно, противоречиво представляющих народ, его требование не употреблять насилие. Противоречие в том, как всегда, что люди насилием хотят прекратить, обуздать насилие. — Вообще легкомыслие людей, творящих эту революцию, удивительно и отвратительно: ребячество без детской невинности».
Манифест, изданный царем 17 октября, в котором народу была дана конституция, свобода слова, печати, собраний, вызвал сначала бурные манифестации сочувствия и восторга в больших городах, но волнения не утихали. Рассказывали, что в Москве дошло до вооруженных стычек между полицией и революционерами, на улицах строили баррикады, друг друга убивают.
Почта, газеты не приходили. Забастовали железные дороги. На станции Козловка застряли поезда, растерянные, голодные пассажиры бродили по окрестным деревням, ища провизии.
Мы питались слухами, всегда преувеличенными, когда они передаются из уст в уста. Среди рабочих, с которыми приходилось встречаться, даже среди некоторых крестьян, была заметна перемена — пропала почтительность, уважение к старшим, появилась некоторая развязность, самоуверенность в тоне.
«Повесят нас революционеры на первой березе», — думала я. Брат Миша, который ожидал третьего ребенка в декабре, никак не мог добраться до Москвы, где была его семья. Наконец, ему удалось нанять лошадей. Проехав полдороги, он позвонил приятелю, спрашивая его о здоровье жены.
— Благополучно, дуплет! — ответил приятель. Под звуки выстрелов, в самый разгар революции, родилась двойня: мальчик и девочка.
27 апреля 1906 года открылась первая Государственная Дума, председателем которой был избран С. А. Муромцев. Из близких нам людей в члены Государственной Думы были избраны С. Сухотин, А. Стахович.
Но по всей России чувствовалось тревожное настроение. Репрессии со стороны правительства продолжались, ждали разгона Думы (она была распущена 9 июля 1906 года). В городах шли забастовки, в крестьянском народе развязались языки, рассказывали о тех безобразиях, которые творились на войне, ругали генералов и хотели одного — больше земли; одни надеялись на царя, другие на Думу.
Отец послал Черткову свою брошюру «Правительство, революционеры и народ», для напечатания в Англии, но Чертков задержал ее, прося отца смягчить резкие суждения о революционерах. Статья эта была напечатана несколько позднее и с очень малыми изменениями в подпольном издательстве толстовца Фельтена, в «Обновлении».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: