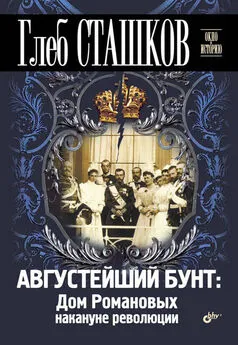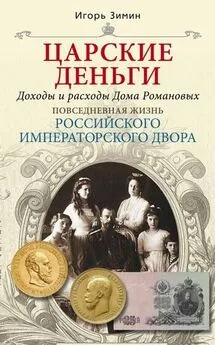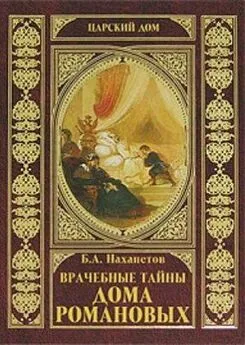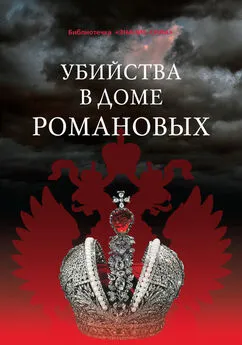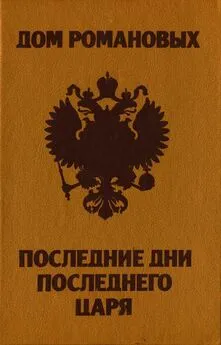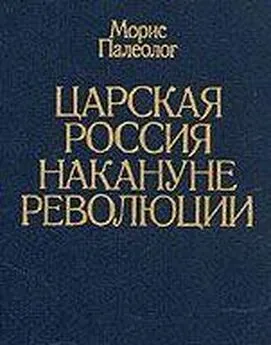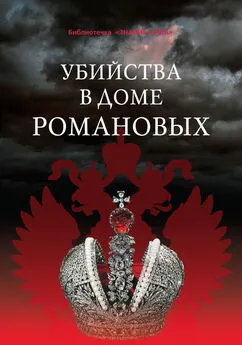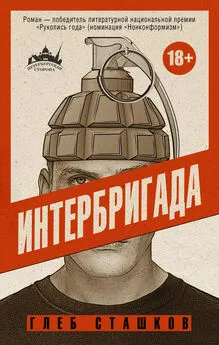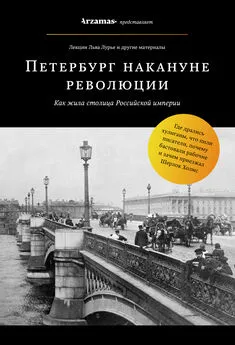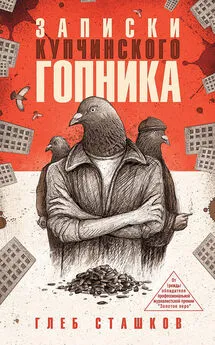Глеб Сташков - Августейший бунт. Дом Романовых накануне революции
- Название:Августейший бунт. Дом Романовых накануне революции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «БХВ»cdf56a9a-b69e-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2013
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-9775-0893-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Глеб Сташков - Августейший бунт. Дом Романовых накануне революции краткое содержание
Автор книги увлекательно пишет о последних Романовых, делая акцент на конфликтах в императорском доме, где политика и борьба за влияние тесно переплелись с личными обидами и ссорами. Пытается найти ответ на вопрос, почему накануне отречения от престола Николай II оказался в одиночестве, хотя у царя были многочисленные родственники, и почему одни члены царской семьи плели заговоры и замышляли убийство других.
Августейший бунт. Дом Романовых накануне революции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Другое дело – война с Центральными державами. Она должна была вызвать всеобщий патриотический подъем. Это не вызывало сомнений. Сомнение вызывало другое.
Все, кроме военного министра Сухомлинова, понимали, что Россия к войне не готова. Лишь в 1913 году была принята «Большая программа по усилению армии», завершить которую планировалось в 1917-м.
Впрочем, трудно отыскать в истории войну, к которой Россия была бы хорошо подготовлена. И вряд ли, начнись она на три года позже, что-нибудь кардинально бы изменилось. Тем более что Большая программа «лишь в малой своей части имела задачей улучшение организации армии и ее снабжения», «на первое место была выдвинута задача количественного увеличения армии» [298]. Как всегда! Не умением, так числом. Пока Германия развивала тяжелую артиллерию и создавала военно-воздушный флот, российские стратеги планировали сформировать 26 новых кавалерийских полков.
Вообще и власть, и общество относились к надвигавшейся войне с каким-то поразительным легкомыслием. Такое чувство, что во всей стране только два человека предвидели, чем она могла обернуться. Это Александр Гучков и Григорий Распутин. Но первого, заработавшего себе репутацию врага императорской семьи, естественно, никто не слушал, а второй был далеко – лечился в тюменской больнице, после того как одна из бывших поклонниц пырнула его ножом.
Военное министерство готовилось к краткосрочной войне: полгодика – и мы в Берлине. А остальные министры в то же самое время отговаривали царя принимать верховное командование над войсками. Поскольку в первый период Россию, скорее всего, будут ждать поражения. Как сочеталось одно с другим – уму непостижимо.
Весьма осведомленный в подковерных интригах французский посол Морис Палеолог записал в дневнике: «Император хотел немедленно стать во главе войск. Горемыкин, Кривошеин, адмирал Григорович и в особенности Сазонов [299]с почтительной настойчивостью напомнили ему, что он не должен рисковать своим престижем и своей властью, предводительствуя в войне, которая обещает быть очень тяжелой, очень опасной и начало которой очень неопределенно.
– Надо быть готовым, к тому, – сказал Сазонов, – что мы будем отступать в течение первых недель. Ваше величество не должно подвергать себя критике, которую это отступление тотчас вызовет в народе и даже в армии.
Император привел в пример своего предка Александра I в 1805 и в 1812 годах. Сазонов основательно возразил:
– Пусть ваше величество соблаговолит перечитать мемуары и переписку того времени. Вы увидите там, как ваш августейший предок был порицаем и осуждаем за то, что принял личное командование действиями. Вы увидите там описание всех бед, которых можно было бы избежать, если б он остался в столице, чтобы пользоваться своей верховной властью.
Император кончил тем, что согласился с этим мнением» [300].
На должность верховного главнокомандующего имелись два претендента. Первый – военный министр Сухомлинов, любимец Николая II и Александры Федоровны. И, кстати говоря, личный враг Николая Николаевича. Но назначить Сухомлинова – бросить вызов обществу. Все знали о финансовых злоупотреблениях в военном министерстве, о безнадежном непрофессионализме министра, о его ни с чем не сравнимой безалаберности. Скажем, в конце 1912 года, во время 1-й Балканской войны, когда Россия оказалась на грани военного столкновения с Австро-Венгрией, Сухомлинов убедил царя провести частичную мобилизацию, что фактически означало войну. Причем не только с Австрией, но и с Германией. Премьер-министр Коковцов уговорил Николая II созвать совещание. Выяснилось, что, отдав приказ о мобилизации, Сухомлинов собрался немедленно уехать на Ривьеру к больной жене. А что в этом страшного, удивлялся министр, Россия отлично готова к войне, все военные заказы размещены и выполняются. От него потребовали конкретики. Оказалось, что военные заказы размещены на заводах «Шкода», т. е. в той самой Австро-Венгрии, с которой планировалось воевать. Даже это обстоятельство не пошатнуло безграничный оптимизм военного министра: «Государь и я, мы верим в армию и знаем, что из войны произойдет только одно хорошее для нас» [301].
Назначить такого человека верховным главнокомандующим Николай II не решился. И назначил великого князя Николая Николаевича. Правда, с оговоркой: «покуда государь сам не примет на себя это командование».
История верховного главнокомандующего Николая Николаевича – яркая иллюстрация того, как несправедливо бывает общественное мнение, Которое может как очернить человека без всякого повода, так и столь же незаслуженно вознести до небес. Случай с Николаем Николаевичем – классический второй вариант.
До войны о вспыльчивости и грубости великого князя ходили легенды. Многие офицеры подавали в отставку, не выдерживая его крика и оскорблений. Популярностью в войсках он не пользовался. Однако, получив верховное командование, великий князь, казалось, осознал ответственность и исправился.
«Должен сказать, что когда он один и находится в хорошем расположении духа, то он здоров, – сообщает жене Николай II, – я хочу сказать, что он судит правильно. Все замечают, что с ним произошла большая перемена» [302]. Полковник штаба гвардейского корпуса Энгельгардт тоже отмечает, что в Николае Николаевиче не осталось «и следа былой несдержанности кавалерийского генерала» [303]. Британский представитель в русской ставке Хэнбери-Вильмс также отзывался о великом князе, как о человеке «всегда спокойном, сдержанном, ведущим себя с достоинством» [304].
Впрочем, другой иностранец – посол Палеолог – спокойствия и сдержанности в главнокомандующем не находил: «В Николае Николаевиче есть что-то грандиозное, что-то вспыльчивое, деспотическое, непримиримое, которое наследственно связывает его с московскими воеводами XV и XVI веков» [305]. На дворе, к сожалению, стоял не XVI, а XX век.
Очень красочное, просто-таки достойное гоголевского пера, описание генералиссимуса оставил его кузен Николай Михайлович: «Тут пришлось мне просидеть довольно долго и слушать поучительные тирады совсем неуравновешенного человека. Николай Николаевич говорил без конца, корчился, жестикулировал ногами и руками, стуча кулаком по столу и раскуривая сигару; лицо его было злое, исковерканное постоянными гримасами, словом – зрелище было далеко непривлекательное». Вызванный главнокомандующим дежурный офицер посмел явиться не в ту же секунду, и, «когда он вошел в вагон, на него посыпалась площадная ругань, но такая, что вряд ли и прислугу приходится так ругать». «Не зная, куда деваться от стыда, я съежился на противоположной стороне вагона. Наконец ругательства прекратились, и добродушная улыбка озарила черты лица Николая Николаевича». Затем принесли депешу о взятии Ярослава и Ирмана. «Восторг был неописуемый. Затребовали из совещания Янушкевича [306]. Началось повальное лобызание, причем я облобызался с высоч. братом Петром (по ошибке), но, вероятно, если бы в вагоне было какое-либо животное, оно удостоилось бы наверное тоже поцелуя» [307].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: