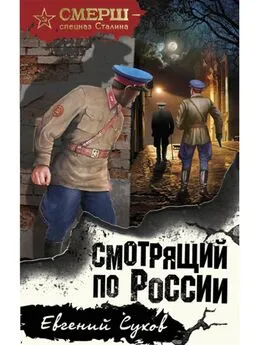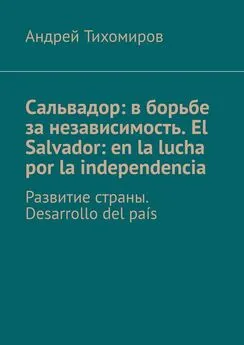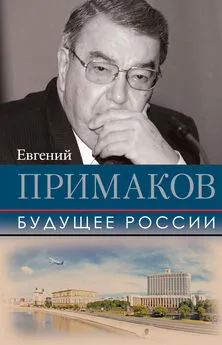Евгений Фирсов - Т. Г. Масарик в России и борьба за независимость чехов и словаков
- Название:Т. Г. Масарик в России и борьба за независимость чехов и словаков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91674-225-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Фирсов - Т. Г. Масарик в России и борьба за независимость чехов и словаков краткое содержание
Монография Е.Ф. Фирсова, чья научная и педагогическая деятельность неразрывно связана с МГУ им. М.В. Ломоносова, представляет собой комплексное исследование пребывания Т.Г. Масарика в России конца XIX – первой трети XX в., восприятия ученого, а также его связей с российской интеллектуальной средой и Л.Н. Толстым. В годы Первой мировой войны стержневой стала борьба русского землячества чехов и словаков за программную линию Масарика – достижение национальной государственности, за признание его лидерства в антиавстрийском движении Сопротивления.
В монографии раскрывается значение для национального движения спецмиссий М.Р. Штефаника и Т.Г. Масарика в России.
Впервые в историографии поднимается проблема восприятия Чехо-Словацкой Республики и ее президента Масарика выходцами из России, после революций осевшими в Праге.
Автор выявил, привлек и проанализировал солидный пласт источников из чешских и отечественных архивов. На основе архивных источников автор установливает, что в издательстве «Жизнь и знание» В. Бонч-Бруевича шла работа по изданию русской версии главного труда Масарика «Россия и Европа».
Книга предназначена для историков, славистов, социологов, регионоведов и всех, кто интересуется чешско-русскими и словацко-русскими научными и культурными связями, историей Первой мировой войны и судьбами переломной эпохи конца XIX – первой трети XX в.
Т. Г. Масарик в России и борьба за независимость чехов и словаков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Славистическую проблематику в ЧСР развивал также его сын – Валерий Сергиевич Вилинский. Его работа «Корни единства русской культуры» была воспроизведена в журнале «Форум» (№ 3, 1993). В межвоенной чешской публицистике встречаются статьи В.С. Вилинского по проблеме евразийства.
Для исследователей интерес представляют неизвестные материалы С.Г. Вилинского, обнаруженные нами в Архиве Национального музея (Прага) в фонде К. Крамаржа. Прежде всего, это объемное письмо из Болгарии от 28.12.1922 г. с подробным описанием всех мытарств и истории пребывания С.Г. Вилинского в этой балканской стране. В письме содержалась основная просьба к Крамаржу ускорить прохождение его дела в Министерстве финансов ЧСР, затянувшееся более чем на год. Только при содействии К. Крамаржа вопрос о назначении Вилинского чешским профессором сдвинулся с места.
Анализ архивных материалов С.Г. Вилинского из фонда Крамаржа в Праге приводит нас к заключению, что Вилинский прибыл в Брно лишь в 1923 г., и не преподавал там в качестве профессора с 1922 г., как утверждал ранее чешский славист Зд. Шимечек [446].
Важный рукописный документ об эмигрантской доле профессора-слависта С.Г. Вилинского стоит привести целиком.
Архивный материал из Архива Национального музея (Прага) без сомнения представляет интерес как для славистов, так и для широкого круга читателей, поскольку эти документы позволяют скорректировать ту завышенную оценку условий пребывания русской эмиграции на Балканах и в Европе, присущий ряду исторических работ последнего времени, за исключением, пожалуй, труда И. Савицкого о русской эмиграции в Чехии [447].
«София, 28/XII 1922 г.
Глубокоуважаемый г-н доктор К.П. Крамарж!
Прежде всего прошу Вас не отказать в прочтении этого письма до конца: хотя я не имею чести быть с Вами знакомым, не имею никакого права беспокоить Вас своими просьбами, но, с одной стороны, крайняя степень отчаяния заставляет обратиться к Вам, с другой – так как я приглашен профессором в Чешский университет, то помощь моему делу будет в то же время помощью молодому Брненскому университету.
Я – Сергий Григорьевич Вилинский, бывший ординарный профессор Одесского университета. В 1920 г. я был принужден (в конце января) покинуть свою родину и бежал в Болгарию. Будучи во время бегства (с женою) ограблен до последнего чемодана, я явился в Болгарию почти нищим, и дальше никуда двинуться не мог. Не по моей вине я не попал в число преподавателей Софийского университета: я был блестяще (в факультете – единогласно, в Академ. Совете – при 1 черном шаре) избран университетом, но случилось это в период конфликта между министром и университетом (из-за речи проректора проф. Цанкова в конце 1920 г.), – и министр систематически делал неприятности университету: поэтому он отказал утвердить и мое избрание под предлогом «бюджетных причин». И вот пришлось мне быть учителем гимназии: с апреля 1920 по 1/IX.1921 в г. Плевен, с 1/IX.1921 по 1/IX.1922 г. в Софии. Жить было тяжело, ибо зарабатывал я уроками мало, а жить надо в столице, так как в 1921 г. ко мне приехал сын-студент, которому надо продолжать образование в университете; но что всего тяжелее, это то, что я, проработавший для науки свыше 20 лет, напечатавший свыше 50 научных трудов (не считая множества газетных статей), я оказался оторванным от науки, которой служил всю жизнь. Тяжелый труд учителя и беготня по частным урокам страшно утомляли меня и отнимали массу времени. Сын у меня болен туберкулезом и зарабатывать не может; жена имеет специальность (акушерка), но здесь ей не разрешают практики, как иностранке. Короче говоря, я один содержу семью, зарабатывая 2500–2600 в месяц, а в Софии для самой скромной жизни надо не меньше 3000 лв. в месяц.
И вот явился просвет. Летом 1920 г. д-р В. Вондрак пригласил меня занять должность договорного профессора в Брненском университете. Я, конечно, с радостью немедленно согласился. Затем в конце 1921 г. я был избран; в начале января 1922 г. Чехо-Словацкая Легация в Софии пригласила меня для переговоров об условиях моего утверждения. Я ответил, что приму все условия, какие предложит Чешское правительство, т. е. вообще желал бы работать на таких же основаниях, как и другие договорные профессора, или же как и чешские профессора. Легация сообщила это в Министерство… и вот на днях будет уже год, как больше никакого движения этого дела нет. Неофициально же по делу я знаю следующее: летом 1922 г. ездил в Прагу проф. Погорелов, избранный в Братиславу договорным профессором, а в октябре ездили на Съезд Газанов и Завьялов; все они говорят одно и то же: Министерство Нар. Просв. сделало со своей стороны все, что следовало, но дело задерживается Министерством финансов, которое пока не нашло или ищет источники для ассигнования. Между прочим (не знаю, шутя ли или серьезно) кто-то сказал проф. Завьялову, что на русских профессоров надо много денег, ибо у проф. Погорелова семья из 8 душ; если Вы услышите подобное, то прошу Вас опровергнуть это самым категорическим образом, ибо: 1) мы хотели бы служить на условиях, равных с условиями службы наших чешских коллег, а 2) у меня не 8 душ, а только 3 (я, жена и сын), причем из двух приглашенных (г. Млчох сказал, что наши два дела идут рядом и совместно) остался теперь я один, а кандидатура многосемейного проф. Погорелова отпала, ибо он получил приглашение в Скопле (Скопщ'е – в Сербии) [448], принял его и в Братиславу не поедет. Итак, остаюсь я один, а это при моих 22 годах службы и при моем 3-членном семействе значит для Республики расходы около 40 000 крон в год. Но ведь расход этот все равно неизбежен, ибо, если в Брно открыт университет, то ясно, что он открыт законодательным путем и что и закон об открытии университета, и план открытия новых кафедр, и план постепенного увеличения ассигнований – все это прошло через парламент и утверждено г. президентом. Почему же тогда задержка?
А между тем посмотрите, что вышло здесь. Когда пришло известие о моем избрании в Брно, один из служащих здешней Чехо-Слов. легации, по своей инициативе и без моего знания, справился в здешнем Министерстве Нар. Просв., освободят ли меня от учительства в середине учебного года, когда придет утверждение, на что ему ответили утвердительно. Это было в январе 1922 г., а летом этого же 1922 г., по окончании учебного года, меня вдруг «освободили от должности». Когда я бросился объясняться, мне ответили: «ведь Вы уезжаете в Чехию, и мы Вашу должность передали постоянному преподавателю». Я: «но ведь утверждения моего в Чехии вот уже 6 мес. нет и когда будет оно, – неизвестно». Отвечают: «если желаете в провинцию, – можно, а в Софии вакансий нет». А как я поеду в провинцию, когда мне надо, чтобы сын учился здесь, и когда, уехав в провинцию, я потерял бы подсобный заработок (1080 лева в месяц в русской гимназии) и остался бы на 1500 лв. жалования из болгарской гимназии, на которые надо было бы и мне с женою в провинции жить и сыну в Софию посылать (я уже сказал, что он нетрудоспособен)? И вот эта жестокость болгар сделала то, что я понадеялся на милость Божию и отказался от назначения в провинцию, оставшись на 1080 лв. жалования из русской гимназии. За квартиру я плачу 750 лв., и на жизнь мне осталось по 330 лв. в месяц, т. е. по 11 лева в день на троих, когда один хлеб весом 1200–1300 грамм стоит 8 лева (по тогдашнему курсу лев был равен 1/6 части чешской кроны, т. е. около 2 крон в день на троих) [449]. Сентябрь, октябрь и ноябрь я был без службы, т. е. при одном заработке из русской гимназии. Ах, господин Крамарж, что это была за жизнь! Будучи ограблены в Одессе в 1920 г., мы здесь, за 1920-22 гг., отказывали себе во всем, чтобы купить хоть что-то из белья и одежды, и все-таки нуждались во многом: жена моя, напр., не имеет теплого пальто и ботинок (ходит в туфлях); туберкулезный сын тоже не имеет теплого пальто и ходит в старой потертой солдатской шинели; я сам имею только один костюм, которому уже 6 лет, и для лета и для зимы. И вот, при такой нищете, пришлось остаться без службы и голодать! Стали продавать все, что можно было и чего нельзя: продали не только одно шерстяное одеяло (полученное при эвакуации от англичан) и остались при 2 одеялах на троих, но даже кусок фланели метра в 2, старую шапку и т. п. хлам, который стыдно было даже носить на «толкучий рынок», словом, все, все, ибо голод – мука
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
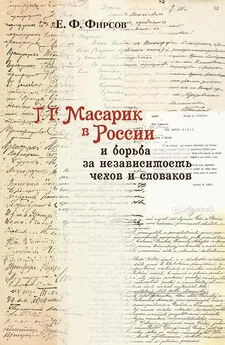
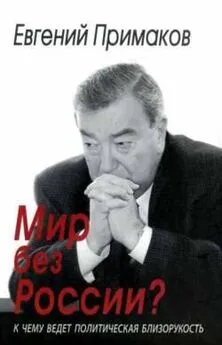

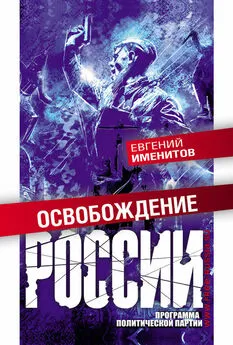

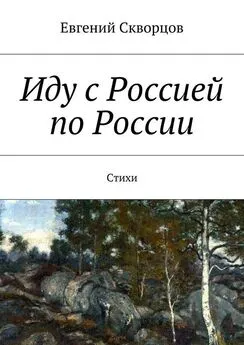
![Евгений Примаков - Будущее России [сборник]](/books/1063134/evgenij-primakov-buduchee-rossii-sbornik.webp)