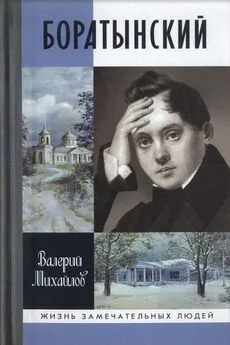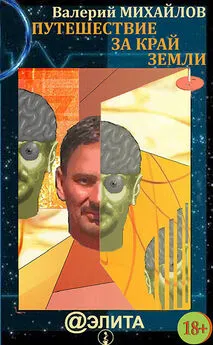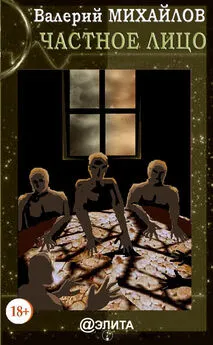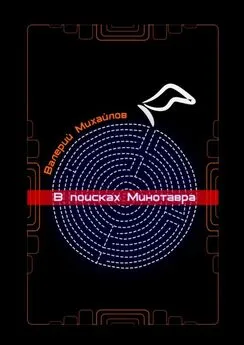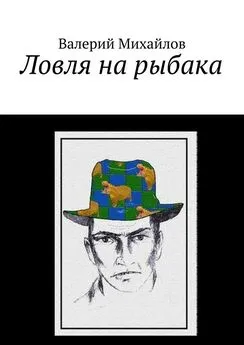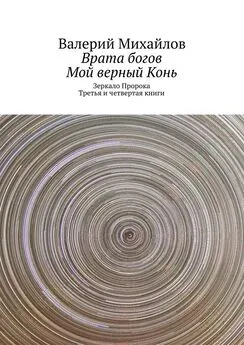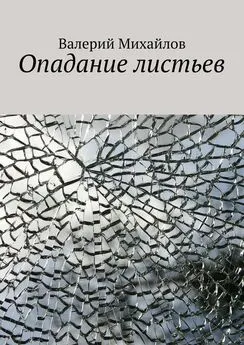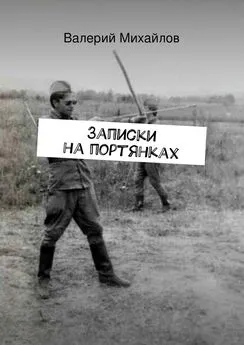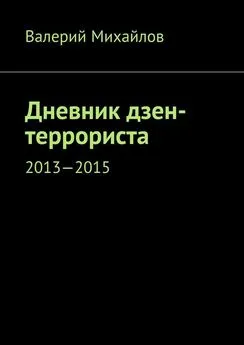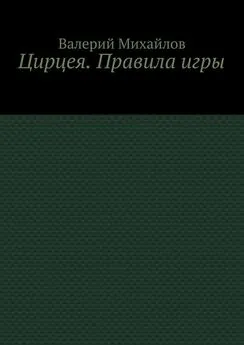Валерий Михайлов - Боратынский
- Название:Боратынский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03783-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Михайлов - Боратынский краткое содержание
Эта книга — первая биография выдающегося русского поэта Евгения Боратынского в серии «Жизнь замечательных людей».
«Мой дар убог и голос мой негромок…» — написал он как-то о себе, но это лишь чрезмерно скромная самооценка одного из лучших поэтов России, наверное, самого негромкого гения русской поэзии. Жизнь Боратынского прошла в самой сердцевине золотого века отечественной словесности. Собеседник Гнедича и Жуковского, друг Дельвига и Пушкина, сердечный товарищ Вяземского и Ивана Киреевского, Евгений Боратынский был одним из тех, кто сделал свой литературный век — золотым.
А. С. Пушкин считал Евгения Боратынского «нашим первым элегическим поэтом». По «вдумчивости в жизнь», глубине анализа чувств, проникновению в «сокрытые движения человеческой души» Боратынский — один из первых в своем поколении. Вместе с Александром Пушкиным он передает эстафету духовных исканий Фёдору Тютчеву и Михаилу Лермонтову, а затем Александру Блоку, поэтам XX и нашего XXI века.
знак информационной продукции 16+
Боратынский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Теперь-то, по прошествии двух веков, очевидно, что эти слова Боратынского были пророческими, что никто лучше его не осознал тогда истинного значения Пушкина в истории русского духа и русской словесности. А ведь Евгению Боратынскому было в то время всего 25 лет, да и Александр Пушкин был всего на год старше…
«<���…> В самом деле примечательно, — замечает Гейр Хетсо, — что высказывание это исходит от Баратынского, которого многие ставили наравне с Пушкиным! Но сам Баратынский весьма далёк от мысли сравнивать себя с Пушкиным. Ему с самого начала было ясно, что к Пушкину надо подходить с другой меркой, чем ко всем остальным писателям. Даже когда он позволяет себе критиковать Евгения Онегина, исходя из требования писательской оригинальности, он ясно сознаёт, что ему „весьма некстати строго критиковать Пушкина“.
То чувство уважения и восхищения перед Пушкиным <���…> вряд ли могло возникнуть от зависти к сопернику. И ничто не указывает на то, что уважение Баратынского к Пушкину с годами уменьшилось. Напротив, оно становилось всё сильнее».
Боратынский был всего годом младше Пушкина, но однажды признался ему в письме, что пишет к нему с тем затруднением, с которым обыкновенно пишут «к старшим». Это не иначе как следствие того внутреннего благоговения, которое он невольно испытывал к поэтическому дару Пушкина и его творениям. По-видимому, то же самое испытывал Боратынский и при личных встречах, несмотря на самые короткие товарищеские отношения. «Пушкин здесь и я ему отдал ваш поклон, — писал он Вяземскому в 1829 году. — <���…> Я с ним часто вижусь, но вы нам очень недостаёте. Как-то из нас двух ничего не выходит, как из двух мафематических линий. Необходима третья, чтобы составить какую-нибудь фигуру, и вы были ею».
С годами они встречались всё реже, от случая к случаю и, понятное дело, несколько отдалились друг от друга. У обоих появились свои семьи и хватало житейских забот; каждый шёл своим путём в литературе. Что до личных взаимоотношений, они не прерывались, но, естественно, не могли остаться такими, как в беспечной молодости. Чувства — вещь чрезвычайно тонкая, переменчивая, тут всё — по наитию, по настроению, по прихотям памяти, по стечению обстоятельств места и времени. Но одно дело жизнь — и совсем другое поэзия: жизнь разводила в стороны, а поэзия сближала…
Скорбь по Пушкину была у Боратынского искренней, сильной, глубокой — непреходящей. Поначалу, как заметил М. Л. Гофман, поэт попросту негодовал, как друзья Пушкина могли допустить его смерть, — «<���…> и впал в состояние, близкое к отчаянию и болезни души».
Узнав, что в Петербурге издаётся 5-й том «Современника» в память Пушкина и в пользу его семьи, Боратынский отправил Вяземскому своё едва законченное стихотворение «Осень» — одно из самых прекрасных и глубоких своих произведений. «Препровождаю вам, — писал он, — дань мою „Современнику“. Известие о смерти Пушкина застало меня на последних строфах этого стихотворения <���…>».
Не случись благотворительного издания, Боратынский наверняка бы ещё долго отделывал это большое и сложное стихотворение, прежде чем отдать его в печать. Потому поэт и объяснился вдруг Вяземскому, невольно приоткрыв свои творческие тайны: «Всякий работает по-своему. Лирическую пьесу я с первого приёма всегда набрасываю более чем с небрежностию; стихами иногда без меры, иногда без рифмы, думая об одном её ходе, и потом уже принимаюсь за отделку подробностей. Брошенную на бумагу, но далеко не написанную, я надолго оставил мою элегию. Многим в ней я теперь недоволен, но решаюсь быть к самому себе снисходительным, тем более что небрежности, мною оставленные, кажется, угодны судьбе. Препоручаю себя вашей дружеской памяти <���…>».
Смерть — всех загадок разрешенье ; она разом выявляет сущность и значение человека в той полноте, что прежде была недостижима. Опадает шелуха привнесённых жизнью личин — проступает лик.
Вяземский недаром прозрел лишь по кончине Пушкина — признавшись, что поэт не был понят при жизни даже его друзьями, не говоря о людях, к нему равнодушных. И Боратынскому истинный Пушкин — открылся только по смерти…
В феврале 1840-го Боратынский приехал в Петербург. Остановился в доме родственников на Почтамтской улице, близ Исаакиевского собора. С Николаем Путятой они к тому времени породнились: друг его финляндской молодости, к радости поэта, женился на его свояченице, Сонечке Энгельгардт, и у них уже подрастала малышка дочь. Вскоре Боратынский побывал в гостях у Жуковского: вместе они разбирали ненапечатанные стихи Пушкина. Боратынский был потрясён, когда прочёл их: «<���…> Есть красоты удивительной, вовсе новых и духом и формою, — писал он жене, Настасье Львовне, 6 февраля. — Все последние пьесы его отличаются, чем бы ты думала? Силою и глубиною! Он только что созревал. Что мы сделали, Россияне, и кого погребли! — слова Феофана на погребение Петра Великого. У меня несколько раз навёртывались слёзы художнического энтузиазма и горького сожаления <���…>».
Эти скорбные и торжественные — высокопарные — слова звучат посреди в общем-то бытового отчёта жене о прожитом дне. Снова, как и в 1825 году, Боратынский сравнивает Пушкина с Петром Великим.
Николай Васильевич Путята вспоминал, что Жуковский, коему государь поручил разобрать бумаги Пушкина, дал тогда Боратынскому одну из рукописных тетрадей in folio в переплёте. В ней был и неизвестный поэту набросок статьи о нём. «<���…> Тетрадь эта оставалась у последнего самое короткое время; он был уже в отъезде и просил меня тотчас возвратить её Жуковскому, что я и исполнил. Кроме помянутого отрывка в этой тетради находились некоторые другие статьи в прозе и клочки дневника Пушкина разных годов. Помню из него почти слово в слово следующие места: 1) число, месяц. „Сегодня приехали в Петербург два француза, Дантез и маркиз Пинна“. В этот день ничего более не было записано. Что замечательного мог найти Пушкин в их приезде? Это похоже на какое-то предчувствие! <���…>»
7 февраля Боратынский провёл утро с Вяземским: говорили о Пушкине. Вяземский предложил ему навестить вдову поэта, сказав, что она очень признательна всем старым друзьям мужа, которые посещают его дом. Боратынский намеревался это сделать, но вскоре повстречал Наталью Николаевну в салоне Карамзиных. «<���…> Вяземский меня к ней подвёл, и мы возобновили знакомство, — сообщал он жене. — Всё так же прелестна и много выиграла от привычки к свету. Говорит ни умно, ни глупо, но свободно. Общий тон общества истинно удовлетворяет идеалу, который составляешь себе о самом изящном, в молодости по книгам. Полная непринуждённость и учтивость, обратившиеся в нравственное чувство. В Москве об этом не имеют понятия <���…>».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: