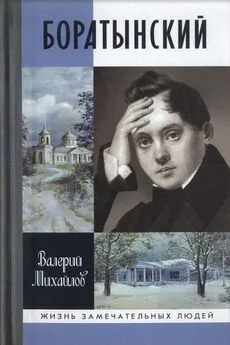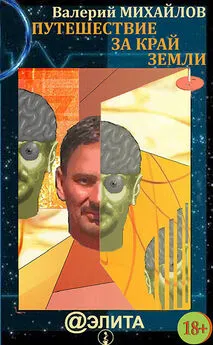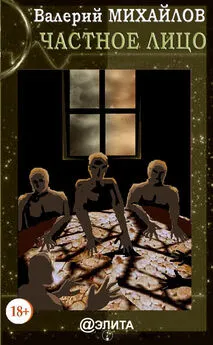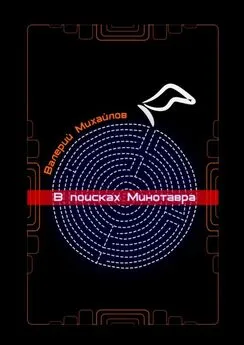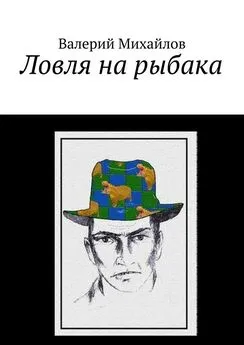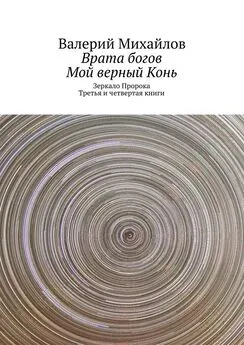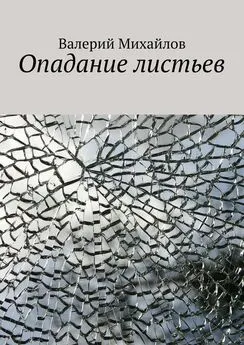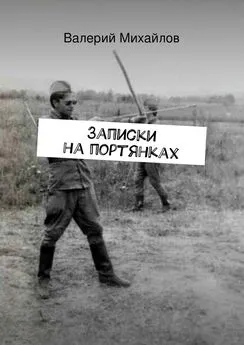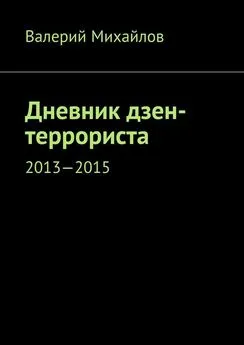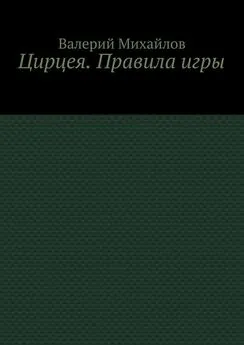Валерий Михайлов - Боратынский
- Название:Боратынский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03783-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Михайлов - Боратынский краткое содержание
Эта книга — первая биография выдающегося русского поэта Евгения Боратынского в серии «Жизнь замечательных людей».
«Мой дар убог и голос мой негромок…» — написал он как-то о себе, но это лишь чрезмерно скромная самооценка одного из лучших поэтов России, наверное, самого негромкого гения русской поэзии. Жизнь Боратынского прошла в самой сердцевине золотого века отечественной словесности. Собеседник Гнедича и Жуковского, друг Дельвига и Пушкина, сердечный товарищ Вяземского и Ивана Киреевского, Евгений Боратынский был одним из тех, кто сделал свой литературный век — золотым.
А. С. Пушкин считал Евгения Боратынского «нашим первым элегическим поэтом». По «вдумчивости в жизнь», глубине анализа чувств, проникновению в «сокрытые движения человеческой души» Боратынский — один из первых в своем поколении. Вместе с Александром Пушкиным он передает эстафету духовных исканий Фёдору Тютчеву и Михаилу Лермонтову, а затем Александру Блоку, поэтам XX и нашего XXI века.
знак информационной продукции 16+
Боратынский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Скорее всего, никто тогда, в первые годы, и не обратил на неё внимания, до того она казалась нелепой.
Но прошло полвека с лишним, и случайно оброненное крапивное семя проросло: его, всячески удобрив, выходил писатель Иван Щеглов. В 1900 году он напечатал в одной из петербургских газет статью «Нескромные догадки», в которой выставил Боратынского тайным предателем и врагом Пушкина, что вредил ему из зависти, — этаким отравителем Сальери при беспечном Моцарте.
Сам Щеглов сознавался, что «фактические данные на этот счёт крайне скудны, зато психологические, так сказать, „междустрочные данные“, в высокой степени характерны и значительны». То есть мало того, что без стеснения объявил о том, что у него нет никаких фактов для обвинений, но ещё и похвалил сам себя за «проницательность».
Если уж говорить о психологических данных , то они напрямую касаются самого Щеглова: наглость и извращённое воображение сделало его банальным клеветником. Тут всё по русской поговорке: свинья грязи найдёт.
Даже обычно сдержанный в выражениях Гейр Хетсо в этом случае не выдержал: «Автор статьи, несмотря на то что в подтверждение своих высказываний не может привести никаких доказательств, уверенно заявляет, что Пушкин в трагедии Моцарт и Сальери изображает себя в образе Моцарта, а в образе Сальери Баратынского. Как Сальери отравил Моцарта, так и Баратынский якобы „отравил“ Пушкина своей „завистью“ и „вероломством“. Статья Щеглова не что иное, как злостная и ни на чём не основанная клевета на Баратынского. Об уровне аргументации Щеглова говорит и то обстоятельство, что он не брезгует даже враждебными намёками на польское происхождение Баратынского и, вопреки фактическим данным, уверяет, что Баратынский в своё время не захотел оказать материальную помощь Гоголю <���…>».
Странно, что этим «нескромным догадкам» тут же, не разобравшись, посочувствовал В. В. Розанов, — не иначе его подвело газетно-журнальное многописание. Превратно истолковав письмо Боратынского Киреевскому с критикой «Евгения Онегина», Розанов, по сути, одобрил измышления Щеглова да ещё и дополнил их своими догадками, легковесными и сомнительными: «В самом деле, отчётливы отношения к Пушкину Языкова, Дельвига, Пущина (он-то при чём, когда речь о писателях? — В. М .), горе по нём Гоголя, стихи о нём Лермонтова; но один друг, о котором сам Пушкин высказал самые шумные похвалы в печати (заметим, что при жизни Пушкина до печати дело не дошло. — В. М.), всегда выдвигая его с собой и почти вперёд себя, до сих пор оставался в тени и не рассмотренным в своём обратном отношении к Пушкину. В то же время Пушкин время от времени вскрикивал от боли какой-то „дружбы“ и наконец запечатлел мучительное и долгое её впечатление в диалогах поразительной глубины. Догадки г. Щеглова так интересны и многозначительны, что хочется, чтобы он приложил дальнейшее усердие к их разработке. Они очень правдоподобны, и мы должны быть благодарны автору уже за то, что он наводит мысль исследователя, открывает дверь исследованиям».
Опять-таки, что за морок нашёл на Василия Васильевича Розанова, который в общем-то был самого хорошего мнения о Боратынском? (Так, своего горячо любимого учителя Н. Н. Страхова он сравнил не с кем-нибудь, а именно с поэтом, назвав Страхова «Баратынским нашей философии» и пояснив свой образ следующими словами: «Есть какое-то несравненное изящество и благородство в чертах их обоих, в трудах их; и мы охотно отвращаемся от более звонких, но неустроенных струн, чтобы сосредоточиться на этих — где нас ничто не оскорбляет, не мучит, не раздражает и не смущает; где, наконец, нас ничто не обманывает».)
Между тем «наводка» Розанова подействовала: к полемике, правда, неохотно, подключился поэт Валерий Брюсов. Разбираться в сути вопроса он также не стал, а взял себе то, что занимало тогда его мысли о двух типах поэтов — интуитивного и рефлектирующего. Пушкина он относил в первому типу, Боратынского — ко второму. Брюсову пригодилось сравнение одного — с Моцартом, а другого — с Сальери. Его комментарии были весьма противоречивы, но Гейру Хетсо показалось, что Брюсов отверг «бесстыдные догадки» И. Щеглова. Это не так: мнение Брюсова половинчато.
Так долгие годы и тлела полузатушенной эта искра клеветы; если кто порой и пытался её раздуть, то без успеха: нелепое занятие… Но и достойного разбора «нескромных догадок» — не было.
Лишь недавно, в 2012 году, писатель Иза Кресикова написала глубокую и аргументированную статью «По следам тенденциозных догадок…». На слова Брюсова о том, что Боратынский всегда сознавал величие Пушкина, но «никогда не упускал случая отметить то, что почитал у Пушкина слабым и несовершенным», Кресикова заметила:
«Да что же в этом вероломного? Они — литераторы, значит, и критики. Всё естественно. Но Брюсов без протеста присоединяется к обвинениям Баратынского (имеются в виду Щеглов и Розанов) в зависти к Пушкину и к тому, что „Сальери Пушкина списан с Баратынского…“, то есть поэта, который подолгу трудился над своими стихами и не мог будто бы без зависти вынести крылатость пушкинского дара.
Ну, то, что и у Пушкина, и у Баратынского если стихи поначалу и сыпались с небес, а затем обдумывались и отделывались с помощью высокого ремесла, теперь уже известно и не пушкинистам».
И. Кресикова в подробностях разбирает все доводы Щеглова — и убедительно их опровергает.
В конце своей статьи Иза Кресикова обращается к природе творчества, к соотношению труда и вдохновения:
«<���…> Щеглов в „догадках“ констатирует: „Самый процесс писания стоил Баратынскому мучительного труда и огромной подготовки <���…>“. Поддерживающий Щеглова Розанов замечает, что в этом-то и есть главная трагедия Баратынского-Сальери: „Сальери глубок, но Сальери не даровит тем особенным <���…>, почти случайным даром <���…>, который творцу ничего не стоит…“ И оба литератора, увлечённые разоблачением, заверяют читателей, что именно „райские видения“ Моцарта-Пушкина являются предметом бесконечной зависти Сальери-Баратынского и всей его недоброжелательности к Пушкину».
Вывод И. Кресиковой справедлив: «открытия» Щеглова с толкованиями их Розановым — тенденциозны; Щеглов извратил смыслы и стихов Боратынского, и его писем «в угоду своей действительно нескромной „увлечённости“».
«<���…> Нынче большинство пушкинистов знают, — пишет в заключении И. Кресикова, — что гений Пушкина включал в себя и „райские видения“ вдохновения (впрочем, Пушкин называл это „быстрым соображением понятий“!), и отделку этих видений, прибегая к кропотливому ремесленничеству — труду. Ни один из обсуждаемых здесь поэтов — ни Баратынский, ни Пушкин — не мог завидовать другому. Они знали и ценили в себе и друг в друге тайны поэтического взлёта и ремесла.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: