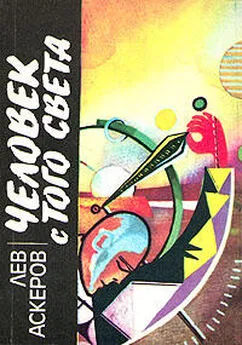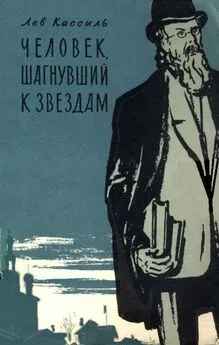Лев Данилкин - Человек с яйцом
- Название:Человек с яйцом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ад Маргинем
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-012-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Данилкин - Человек с яйцом краткое содержание
Еще в рукописи эта книга вошла в шорт-лист премии «Большая книга»-2007. «Человек с яйцом» — первая отечественная биография, не уступающая лучшим британским, а Англия — безусловный лидер в текстах подобного жанра, аналогам. Стопроцентное попадание при выборе героя, А. А. Проханова, сквозь биографию которого можно рассмотреть культурную историю страны последних пяти десятилетий, кропотливое и усердное собирание фактов, каждый из которых подан как драгоценность, сбалансированная система собственно библиографического повествования и личных отступлений — все это делает дебют Льва Данилкина в большой форме заметным литературным явлением.
Человек с яйцом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Инвестиции казенных средств в текстиль и местную теневую экономику в момент заключения сделки представлялись необычайно удачными, но в краткосрочной перспективе отрицательно повлияли на финансовый климат в семье Прохановых. По приезду в Москву его нигерийские злоключения не закончились, он подвергся атаке бухгалтерии. От него потребовали квитанции об оплате гостиницы — либо возвращения непотраченных целевым образом командировочных. Никаких валютных средств у него, разумеется, не осталось, он растратился подчистую, энтузиазм по отношению к примитивным орнаментам и поездки на автомобиле с мигалкой опустошили его банковский счет. Все это могло кончиться настоящим скандалом, вплоть до разрыва отношений с «Литературкой» и выдворения из журналистской элиты с волчьим билетом. Он уже начал было занимать деньги у знакомых и приобретать у черных дилеров валюту, но тут, к счастью, его спасает собственная книга.
В Москву прибывает эмиссар немецкого издательского концерна «Бертельсманн» с целью исследования культурного рынка СССР и приобретения экзотических продуктов социализма, которые можно было бы конвертировать на западном рынке. Этот человек, сын немецкого дипломата и русской женщины, упоминается в «Надписи», нелицензированный маршан бродил по всем этим мамлеевским квартиркам и подпольным, мастерским, салонам, общался с экспертами и в массовом порядке скупал картины нонконформистов и права на некоторые тексты. Неожиданно ему страшно понравилось изруганное советской критикой «Их дерево», и он заключил с Прохановым крайне выгодный контракт. Таким образом ему удалось залатать эту страшную дыру в бюджете.
На немецкий, впрочем, «Их дерево» так и не перевели, а сам этот немец, наблюдая за эволюцией Проханова в сторону «соловья Генштаба», горько сетовал, пророчески указывая ему, что это не то направление, которое приведет его к успеху у широкой читательской аудитории.
Я несколько раз пытался поговорить с Прохановым о тех 70-х, какими они выглядят в моем представлении — из фильмов вроде «Осеннего марафона», ну или хотя бы из его же «Их дерево», но он решительно отрекается от всей этой интеллигентской мути.
— Нет, я видел все стройки, я видел большие коллективы, пуски, старты ракет, военные маневры в Белоруссии, на БАМе видел, как вырывали кости заключенных. Целина — огромный полигон, степь, просторы. Но я был такой налетчик. Я не устраивался на годы в артели, я летал на это все, обожал, создавал образ, вытаскивал из месива то, что бросалось в глаза, не докучая себе изучением быта, уклада, вытаскивал образный ряд. А что там было в глубине — мне не удавалось глубоко проникать. Я очень остро ощущал себя на фоне железа, тайги, у меня происходили старинные мировоззренческие процессы — судьба, смерть, смысл жизни, тварность, род, дети. И было небезразлично, где это пережить.
Б 1975-м он заканчивает «Время полдень» — роман-ревизию великой державы, отчет, из которого следует, что советская цивилизация находится в зените.
Синтезированный из автора и Пчельникова экономист-географ-лектор-футуролог Кириллов (человек, «дающий пространственные характеристики ландшафтам», что бы это ни значило), расставшийся с женой, едет вниз по Оби — из целинного Казахстана, Темиртау, через Сургут, к Салехарду — по какой-то неясной причине ему все это надо увидеть. Он инспектирует целинные поля, стройки заводов, гидроэлектростанции. Чуть ли не в первой главе он знакомится с некой Ольгой и так ею увлекается, что в какой-то момент их путешествие даже прерывается — они поселяются в идиллической избушке у черта на рогах, намереваясь навсегда прервать все контакты с окружающим миром.
Однако в силу того, что Кириллову требуется медицинский уход (пошаливает сердечно-сосудистая), дауншифтеры вынуждены вернуться в цивилизацию и продолжить путешествие. В Салехарде они расстаются — Ольга летит в Москву, а он должен заскочить еще на одну ГРЭС, есть шанс, что они все же встретятся еще в конце, в столице. Сюжетные главы про Кириллова чередуются, как и в «Кочующей розе», с очерковыми.
«Время полдень» — еще один роуд-новел: кочевание, странствие по задворкам СССР, роман о формировании кристалла характера под давлением природы, ландшафтов, людей, цивилизации и любви. Как точно выразился в предисловии критик Ганичев (ключевая, кстати, фигура в определенных кругах, которые потом назовут «русской партией», характерно, что уже тогда Проханов, каким бы экзотичным ни казался его «авангардизм», был с ними, имел право на предисловия от них), это «роман о пространствах, имя которым — с одной стороны — держава, с другой — душа».
Роман опять ломится от монологов-лекций про кристаллы, целину, территории; разбухает от дифирамбов технике, пространствам, движению масс. Если «Кочующая роза» была «наброском гигантской живой машины», то теперь автор проникает в детали, наводит фокус, щупает узлы и сочленения. Глаз его уже видит не просто кристалл, но различает его грани: техника, индустрия, цивилизация. Он восхищается заводами («И опять комбинат поразил его своей непомерной железной красой. Словно степь в этом месте проросла ветвистой стальной грибницей, и на ней, толпясь, тянутся вверх трубы, мартены, домны»), гидроэлектростанциями («Вот он, наш храм-то! Вот она, наша душа. И наше единство. В нем вся судьба, всех нас… Всем нам памятник рукотворный!»), осваивает энергичную индустриальную поэтику («Механизированная колонна мелиораторов угнездилась на краю поселка, растолкав мелколесье, врезавшись домами и техникой в глину и топь») и злоупотребляет метафорикой («Кружево подстанции звенело в ночи»).
— Я читал у Натальи Ивановой про «ритуальные поездки» по стройкам, в которые «заставляли» ездить писателей. Это ведь Горький придумал в 1933 году таскать своих коллег на стройки, чтобы затем те воспели (рабский) труд. Вы все 70-е чуть ли не раз в месяц ездили на всевозможные предприятия разной степени готовности — от котлована до действующего конвейера. Для вас это тоже была рутина?
— Я очень любил бывать на этих стройках и действительно довольно много объехал их — электростанции, заводы. Когда я двигался по индустриальным ландшафтам, меня увлекала огромная концентрация энергии, которая там скапливалась. В этих стройках много было электроэнергии, человеческой энергии, энергии денег и энергии государственного планирования. Все это вместе взятое — любая крупномасштабная стройка мне представлялась таким кратером, из которого валит горящая магма сотворения. Я поставил себе целью описать языком, средствами своей метафорической прозы все грубые производственные процессы. Так возник «Время полдень» — я просто шел и описывал, как варится сталь, как катаются трубы, как добывается нефть, как пускаются электрические роторы, как молотится хлеб — все эти, в общем, простые производственные процессы, феноменология труда, который заложен в государственном планировании. Меня это увлекало, в этом была мистика или, скорее, метафизика.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: