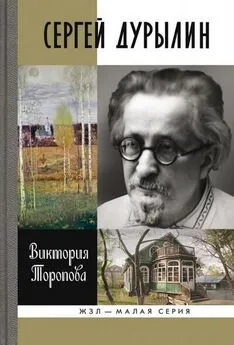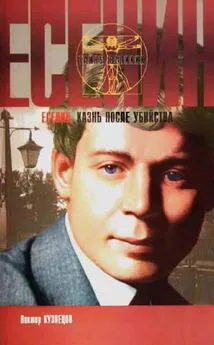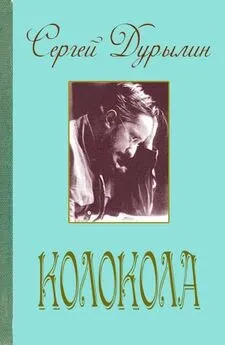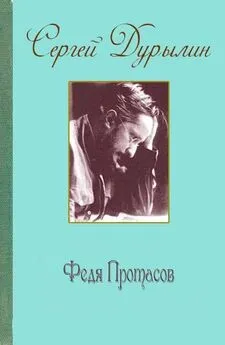Виктория Торопова - Сергей Дурылин: Самостояние
- Название:Сергей Дурылин: Самостояние
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03702-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктория Торопова - Сергей Дурылин: Самостояние краткое содержание
Перед читателями — первая биография крупного учёного — литературоведа, театроведа и историка театра, этнографа и археолога, поэта и прозаика, религиозного мыслителя, автора бесценной биографии художника М. В. Нестерова в ЖЗЛ, интереснейших исследований о Гоголе, Лермонтове, Пушкине, А. Островском, Ермоловой, Гёте, книги мемуаров «В своём углу» (называем только часть опубликованных работ).
Яркий представитель Серебряного века русской культуры, он до недавнего времени оставался в тени известных его современников, хотя был в гуще интеллектуальной жизни века революционных потрясений и войн, которые отразились и на его судьбе. Проза и поэзия Дурылина, некоторые научные труды много десятилетий пролежали в архиве и только в наши дни приходят к читателю. В своём загородном доме в Болшеве (сейчас здесь находится мемориальный музей) Сергий Дурылин духовно окормлял многих приезжавших к нему выдающихся деятелей культуры уже советского времени.
Автор книги В. Н. Торопова, лауреат литературной премии имени С. Н. Дурылина, дружила с Ириной Алексеевной Комиссаровой-Дурылиной — духовной дочерью и гражданской женой Дурылина, которую тот называл своим «ангелом-хранителем». Рассказы Ирины Алексеевны, её записки составили бесценный материал, который тоже, наряду с архивными документами, помог автору в создании жизнеописания этого незаурядного человека.
знак информационной продукции 16 +
Сергей Дурылин: Самостояние - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Замечательно наблюдение Дурылина о влиянии Толстого на читателя: «Никто из-за шиллеровских „Разбойников“ не пошёл в разбойники, а из-за Толстого целое поколение русской интеллигенции пошло в толстовцы, — в „разбойники“, с точки зрения правительства Александра III. „Буря и натиск“ Гюго бушевали в парижском театре, а тихая буря и непротивленческий „натиск“ Толстого приводили к Сибири, к дисциплинарному батальону, к тихому взрыву государственного и социального строя… Толстой извлекал читателя из „вымысла“ и вонзал в жизнь. Таких „читателей“, как покойный Петя Картушин или Николай Сутковой, конечно, не было ни у Байрона, ни у Шиллера с его „разбойниками“. Отказ от состояния: от денег и земли (Картушин), от интеллигентской привилегированности, от всех условий обычной жизни так называемого] образованного человека (Сутковой); огонь внутри: острый огонь глубочайшего противления государству, обществу, социальному строю, при тишайшем „непротивлении“ внешнем, — это такая „буря и натиск“, такой „байронизм“, перед которым „Разбойники“ и любой Гяур — детская глупость. Нельзя сохранить своё благополучие, вчитавшись в Гоголя, Достоевского, Л. Толстого, — их читатель, вчитавшийся в них в России, был неблагополучный читатель: прочёл — и ушёл, кто в монастырь, кто в революцию, кто в непротивление с его тихим динамитом, подложенным под здания государства и собственности, — а „Фауста“, „Дон Карлоса“, „Дон Жуана“ — прочли себе немцы и англичане, очень одобрили, — и ничего не случилось: всё сейчас же перешло в спокойное ведомство историков литературы» [123] Там же. С. 421–422.
.
Пушкин для Дурылина как лакмусовая бумажка, которой проверяется истинность таланта того или иного писателя. На редких страницах объёмного труда «В своём углу» не встречается имя Пушкина. Ему же посвящены отдельные главки «Мой Пушкин». «Пушкин — это Бог сжалился над Россией и послал ей солнышко». На заднем форзаце книги «А. Пушкин. Сочинения» [124] Пушкин А. Сочинения / Ред., биогр. очерк и прим. Б. Томашевского; вступ. ст. В. Десницкого. Л.: ГИХЛ, 1935.
сохранилась замечательная и характерная как для отношения Дурылина к Пушкину, так и для его манеры работать с книгами [125] Дурылин имел обыкновение оставлять на вышедших книгах свои заметки, комментарии, иногда об авторах (на страницах «Антологии» «Мусагета»), иногда историю написания своей работы (на книге «Айра Олдридж»), иногда отношение к своей публикации (на оттиске статьи «Об одном символе у Достоевского»). Часто он помечает, где и при каких обстоятельствах написано: «На трамвае, читая „Среди иноязычных“ Розанова» (запись «В своём углу», тетрадь VII, № 92), «Писано в Болшеве и по пути из Воронежа в Москву» («В зале консерватории»).
запись: «Пишу эти строки 1937 года, в 2 ч. 15 м. дня (по солнцу), в час, когда сто лет тому назад умер Пушкин. Ирина [126] Ирина Алексеевна Комиссарова.
ушла к памятнику его, на Страстную площадь, а я прервал писание статьи „Отражение архитектуры в поэзии Пушкина“. Ирина сказала, уходя: „Иду точно к покойнику“. <���…> Все мы виноваты перед Пушкиным. Кто же соблюл, — уж не говорю: умножил, — чистоту его речи, богатство его мысли, светлость его любви к родине, правду его благородства и солнечности? Никто. Все грешны перед ним. Сто лет прошло, а он полнее, правдивее, мудрее, светлее всех! И со своей искренностью и высотою он как не умещался, так и не умещается в нашу жизнь, мысль, слово. Всегда он больше, всегда он полнее, всегда он правдивее. Так будет всегда. Он всегда будет больше всех, как солнце больше всех на небе. 2 ч. 15 м. дня 29 января. Ст. ст. 1937» [127] Цит. по: Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 2006–2007 год [8] / Под ред. М. А. Колерова, Н. С. Плотникова. М., 2009. С. 528.
. Дурылин опубликовал более сорока работ о Пушкине, в основном это статьи в различных изданиях и книга «Пушкин на сцене». В 1930-е годы поместил в журналы целый ряд очерков на тему «Забытый Пушкин» по неизданным и затерянным материалам. Замыслил, но только частично осуществил цикл работ «Пушкинское тридцатилетие в русской литературе». Единого монографического исследования он не оставил. В его архиве среди неопубликованных работ есть законченные и незаконченные, а также разбросанные по разным письмам и статьям (о других писателях, театральных постановках, художниках) вкрапления размышлений о Пушкине…
С Гоголем Дурылин чувствует свою близость, чтение «Писем» Гоголя вызывает трепет. Они полны «муки, молитвы и ужаса Гоголя перед тёмными мельканиями бывания, которые так смешны в „Ревизоре“ и „Ссоре Ивана Ивановича“, но которые так страшны в истории и в душе человеческой. Вот многострадальнейшее имя во всей русской литературе. Пушкина можно любить, перед Толстым изумляться, Достоевский может внушать восторг или отвращение, — Гоголя и его судьбу надо перестрадать, перемыслить, перенести на себя. Этого ещё никто не сделал, — оттого Гоголь — загадочнейший писатель, о котором написаны многотомия глупостей и две строчки истинной любви и понимания. Гоголь — узел: в нём встречаются по-настоящему, лицом к лицу, плечо с плечом, христианство и культура, церковь и литература, писательство и гражданство, художник и мыслитель, этика и эстетика, болезнь и здоровье, идеализм и реализм, Европа и Россия и т. д. и т. д. без конца. <���…> Его положение — и прежде, и теперь, и, вероятно, всегда будет, — точь-в-точь таково, как изобразил Андреев на памятнике: запахнутый в огромную шинель и опустив голову, поникнув птичьим носом, леденеть в пустынном одиночестве — над загадочною, пустынною родиною своею» [128] Дурылин С. Н. В своём углу. М., 2006. С. 400–401.
. Путь Гоголя как писателя и мыслителя пройдёт и Дурылин: с одной стороны, его разрывала неодолимая тяга к творчеству, с другой — устремление к религиозным исканиям. Судьбу Гоголя он «перестрадал» и «перемыслил», а в какой-то период и перенёс на себя. В год столетия Гоголя — в 1909-м — в «Весах» выйдет работа Дурылина «Последнее письмо о. Матфея Н. В. Гоголю». А дальше — более десяти публикаций, основанных на биографических разысканиях, комментировании эпистолярного наследия (в том числе и в академическом собрании сочинений Гоголя 1940 года), анализе сценического воплощения пьесы Гоголя. И ничего из того, что «мыслительно отстоялось» и могло бы быть написано.
Когда Дурылин прочёл в первый раз Достоевского, он сразу почувствовал, что «и мир стал другой, и люди другие, и я другой» [129] Там же. С. 643.
. Творчество Достоевского исследовано им глубоко, но опубликовано мало, как это часто у Сергея Николаевича случалось. Статья «Об одном символе у Достоевского» опубликована в 1928 году [130] О вышедшей статье Дурылин пишет в январе 1930 года Е. В. Гениевой: «…получился только костяк статьи, да и то с искривлённым позвоночником . Последняя глава выкинута. То, что вошло в примечание на стр. 190, заканчивало последнюю главу. Глава о „Карамазовых“ — 1/5 того, что было. Опечаток и шероховатостей — бездна» («Я никому так не пишу, как Вам…» С. 300, 374).
. Статья «Монастырь старца Зосимы. (К вопросу о творческой истории I, II и VI книг „Братьев Карамазовых“ Достоевского)» ждёт своего публикатора. Статья «Пейзаж в произведениях Достоевского» [131] Доклад в ГАХН в 1926 году.
увидела свет лишь в 2009 году. «Достоевский не изобразитель природы» — так начинает статью Дурылин. Но далее на примере романов и повестей писателя подробно разбирает метод использования Достоевским пейзажа, вернее «пейзажной ремарки», для отражения его в душе человека. «Пейзаж у Достоевского, — пишет Дурылин, — насквозь антропологичен: он вписан, вдавлен в человека и в человеке где-то таинственно соприкасается с глубинами не только его психологии, но и антологии». Он выделяет более десяти видов пейзажа: пейзаж-символ, звуковой пейзаж, пейзажная рама, пейзаж-пауза, пейзаж благоволения и т. д. Ещё далеко Дурылину до его театроведческого поприща, но театровед в нём уже рассматривает «пейзажные ремарки» Достоевского, которые могут служить точными указаниями режиссёру, как надлежит сценически оформить его романы-трагедии.
Интервал:
Закладка: