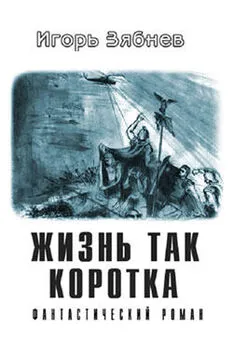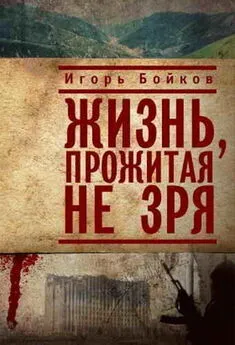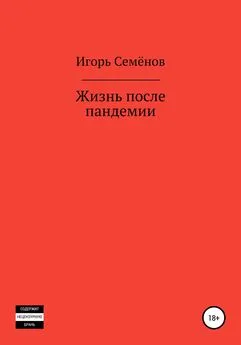Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование
- Название:Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ИП Князев»c779b4e2-f328-11e4-a17c-0025905a0812
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-7439-0160-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование краткое содержание
Юрий Павлович Казаков (1927–1982) – мастер психологического рассказа, продолжатель русской классической традиции, чья проза во второй половине XX века получила мировую известность. Книга И. Кузьмичева насыщена мемуарными свидетельствами и документами; в ней в соответствии с требованиями серии «Жизнь и судьба» помещены в Приложении 130 казаковских писем, ряд уникальных фотографий и несколько казаковских рассказов.
Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Так что же такое Нестор? – задавался вопросом Казаков. – Я вдруг вспомнил все свои странствия за последние годы – где только я не побывал! На Смоленщине, в Ярославской, Горьковской, Калужской областях, и на Севере, и в Сибири… И сколько попалось мне таких вот Несторов в своих домах, со своими садами и огородами, коровами и поросятами. Земля по отношению к человеку безлична, она родит и отдает плоды любому, кто за ней ходит. Но вот такой человек, как Нестор, никогда не был безличным по отношению к земле. Для него всегда существовало понятие земли своей и чужой. И никогда не перейти ему пропасти, разделяющей землю на свою и общую».
Казаков задумывался надо всем этим в конце 1950-х годов. Однако потребовалась треть века, чтобы обстоятельства резко изменились и общество вняло голосу Нестора. А в 1965-м, когда «Нестор и Кир» был опубликован – в журнале «Простор» (Алма-Ата), с купюрами и жесткой редакторской правкой, московские журналы печатать рассказ наотрез отказались, – образ Нестора сильно озадачивал критиков.
«В рассказе Ю. Казакова, – писал в 1965 году Ф. Левин, – отражается двойственное отношение к Нестору: неприятие его как социального типа и любование его человеческими достоинствами – силой, умением, трудолюбием, хваткой, твердостью характера». Такое отношение писателя к своему герою не устраивало критика, ему хотелось, чтобы писатель привел в своем споре с Нестором всем известные аргументы, как это делалось в литературе прежде. Но у Казакова была своя задача: он просто встретился с живым человеком, с недавним «кулаком» и выслушал его исповедь, дав тому редкую возможность высказаться.
Пытаясь вникнуть в казаковскую позицию, А. Нинов – уже в 1974 году – как бы возражал Ф. Левину: «Всей системой образных отношений Ю. Казаков раскрывает неполноценность, ущербность жизни, потраченной на стяжательство. И вместе с тем он отдает должное Нестору, когда его устами говорит одаренный работник, трезво мыслящий и сметливый в хозяйстве человек, негодующий против расточительства, безрукости и всяческой лени. Правда – даже в чужих и неприятных устах – сохраняет свой смысл и силу. И надо иметь мужество ее выслушать. Автор потому и не спешит ослабить двойственность впечатления, вынесенного им из встречи с Нестором. В этой двойственности нужно еще разобраться, нужно еще понять, что ценное и что дурное заложено в человеке».
Но ведь и это еще не все.
Казакову всегда претил догматизм любого толка – особенно же во взгляде на человека, – на всякого человека, и на того, что, казалось бы, отжил свой век тоже. Готовые книжные рекомендации, предлагаемые общественной «наукой», претендовавшей на силу всемирного закона, его не интересовали – его интересовали живые лица, простые люди.
Казаков написал «Нестора и Кира» в 1961 году, когда на представлениях о положении дел в деревне, о психологии советского крестьянина лежал отсвет благодушной литературы предшествующих лет и сказывался груз тех легкомысленных сочинений, про которые Казаков в этом рассказе говорил, что в них было все – «счастье, изобилие, социализм был построен, пережитков не существовало», послевоенная деревня поспешала в этих книгах к коммунизму, и конфликт в них строился «на борьбе отличного с хорошим». До расцвета «деревенской прозы», трезво взглянувшей правде в глаза, было еще далеко, пора напряженных психологических поединков, к примеру, в «Плотницких рассказах» В. Белова, была впереди, и потому вклад Казакова в разработку проблем, позже поднятых «деревенской прозой», общепризнан.
Однако нужно подчеркнуть, что и здесь Казаков придерживался своего художественного ракурса, и та двойственность, о которую спотыкались критики, имела в «Несторе и Кире» не только конкретно-социальную, а еще историко-культурную подоплеку.
Казаков знал: Несторы, встреченные им в разных уголках России, – носители вековой крестьянской культуры, вдруг оказавшейся на грани гибели. Культуры не узко земледельческой или промысловой, но культуры духовной, освященной тысячелетней христианской традицией. А что до Русского Севера, где искони преобладало старообрядчество, то тут стремление к хозяйственной самостоятельности и национальной самобытности было всегда особенно ощутимо, хотя старообрядцы умели, когда следовало, проявлять и разумную веротерпимость. Как заметила К. Мяло (1988), «на крутых поворотах своего развития старообрядческая община выработала удивительную способность гибкого существования в двух временах: в священном, неизменном времени фундаментального ядра традиции и основанных на ней обрядов и в текущем, эмпирическом времени, отношения с которым отнюдь не были проблемой, о чем свидетельствовала не в последнюю очередь и хозяйственная умелость старообрядцев, а также их пространственная подвижность и способность сосуществовать с самыми различными национальными и культурными традициями…»
Вот эта-то способность «существования в двух временах», эта наследственная верность народной культуре вопреки культуре официозной и поразила Казакова в поморах. Он уже тогда догадался, что трагедия не просто в несправедливостях и ужасах «раскулачки», но в тотальном уничтожении самих первооснов стародавней крестьянской жизни. Это угнетало его больше всего. Так что истоки двойственности, которой отмечен рассказ «Нестор и Кир», а также причины социальной и культурной изоляции казаковских героев – здесь. И отсюда же в «Несторе и Кире» – и не покидающая автора печаль, и душевная неуютность, и нелегко дающийся ему контакт с героями, и невозможность судить о них по привычным меркам, и неясное чувство собственной вины…
Восхищение героями рассказа никак не мирилось в авторском сознании с их приниженностью и ограниченностью. В том, что Нестор и Кир ведут здоровую, естественную, в итоге – социально полезную жизнь, стоило ли сомневаться? Но писателя явно смущало резкое несоответствие их и его собственных потребностей. «То, что важно для меня, – писал Казаков, повторяя беломорский дневник 1958 года, – для них не важно. Из выпущенных у нас полутора миллионов названий книг они не прочли ни одной. Получается, что самые жгучие проблемы современности существуют только для меня, а эти вот два рыбака все еще находятся в первичной стадии добывания хлеба насущного в поте лица своего и вовсе чужды какой бы то ни было культуры?»
Поистине, спрашивал Казаков: «Зачем же им книги? Зачем им какая-то культура и прочее вот здесь на берегу моря? Они – и море, больше нет никого, все остальные где-то там, за их спиной, и вовсе им не интересны и не нужны».
Эти вопросы обращены писателем не к героям рассказа, а к самому себе. «Какая-то культура» им была, действительно, не нужна, для них было бы противоестественно подстраиваться под «городской прогресс». Родная же культура, которую завещала им христианская традиция, десятилетиями слепо подавлялась, что и привело в итоге к общественной летаргии и безразличию. Наблюдая натуральную, немую жизнь Нестора и Кира, Казаков с обидой за своих героев вспоминал столичные «под коньяк» разговоры о литературе, о поэзии, о «направленности творчества», вспоминал клубные споры, в которых «кажется, что от того, согласишься ты с кем-то или не согласишься, зависит духовная жизнь страны, народа», – и разговоры эти представлялись ему суетными…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: