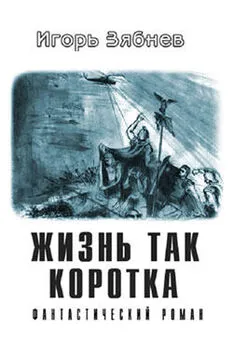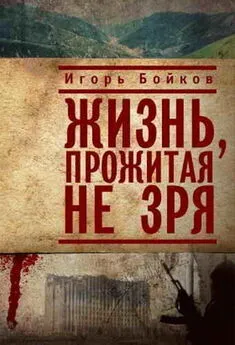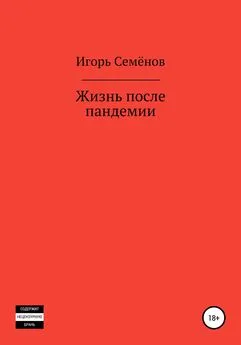Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование
- Название:Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ИП Князев»c779b4e2-f328-11e4-a17c-0025905a0812
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-7439-0160-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование краткое содержание
Юрий Павлович Казаков (1927–1982) – мастер психологического рассказа, продолжатель русской классической традиции, чья проза во второй половине XX века получила мировую известность. Книга И. Кузьмичева насыщена мемуарными свидетельствами и документами; в ней в соответствии с требованиями серии «Жизнь и судьба» помещены в Приложении 130 казаковских писем, ряд уникальных фотографий и несколько казаковских рассказов.
Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Критики, прочитав «Нестора и Кира», поспешили упрекнуть Казакова в том, что он, дескать, «впадает в рефлексию и испытывает ложный стыд» за свою литературную профессию. Но это неправда. Дело литературы для Казакова было свято.
Глава 6
«Эта внезапная божественность слова…»
Так уж издавна повелось в русской литературе: ответственность перед талантом и перед собственной совестью всегда почитались у нас превыше всего, – об этом замечательно писал в свое время Гоголь, вспоминая, как Пушкин сказал однажды, что «слова поэта суть уже его дела».
«Пушкин прав, – писал Гоголь. – Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще… Потомству нет дела до того, кто был виной, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще необдуманно и незрело. Оно не станет разбирать, кто толкал его под руку: близорукий ли приятель, подстрекавший его на рановременную деятельность, журналист ли, хлопотавший только о выгоде своего журнала. Потомство не примет в уважение ни кумовство, ни журналистов, ни собственную его бедность и затруднительное положение. Оно сделает упрек ему, а не им. Зачем ты не устоял противу всего этого? Ведь ты же почувствовал сам честность званья своего; ведь ты же умел предпочесть его другим, выгоднейшим должностям и сделал это не вследствие какой-нибудь фантазии, но потому, что в себе услышал на то призванье Божие, ведь ты же получил в добавку к тому ум, который видел подальше, пошире и поглубже дела, нежели те, которые тебя подталкивали. Зачем же ты был ребенком, а не мужем, получа все, что нужно для мужа?»
Казаков, ступив «на поприще слова», благоговел перед классиками, перед великими традициями и дорожил этой гоголевской заповедью, наверно, как никто из его сверстников. И по прошествии десятилетий мужи прошлого оставались для него живым примером и тем образцом служения отечественной словесности, следуя которому только и можно не посрамить «честности званья своего», как того требовал Гоголь.
При всяком удобном случае Казаков старался и объяснить, и отстоять такую свою позицию.
«Русская литература, – писал он в декабре 1967 года, – всегда была знаменита тем, что, как ни одна литература в мире, занималась вопросами нравственными, вопросами о смысле жизни и смерти и ставила проблемы высочайшие. Она не решала проблем – их решала история, но литература была всегда немного впереди истории. Мы потому и оглядываемся постоянно на наших великих предшественников, что современных писателей такого масштаба у нас нет или, говоря точнее, почти нет. Мы потому и всматриваемся в них с такой ненасытностью, что велики они не тем только, что прекрасно писали, а тем еще, что писали о самом главном, что составляет сущность жизни общества».
«Лучше, чем я могу, я не напишу, разумеется, – продолжал Казаков, – но вера в высшее предназначение писателя, постановка важных вопросов, серьезное отношение к задачам литературы даже при малом таланте поможет мне стать писателем настоящим. Так что напомнить друг другу об ответственности перед талантом и перед словом никогда не лишне».
Принципиальная оглядка на классику, вера в высшее предназначение писателя, завещанный великими мастерами критерий, с каким следует подходить к литературе, диктовали Казакову и те цели, которые он смолоду ставил перед собой.
Тогда, в молодости, витало в воздухе горячих споров лихое словечко «гениально», как бы по новому курсу пущенное в оборот, и далеко не каждый взявшийся за перо, наскоро вкусивший удачи, задумывался над тем, на что обрекает себя. Не каждый спрашивал себя: сумеет ли он с честью одолеть грядущие испытания? Не разменяет ли на мелочи свой талант? Хватит ли у него сил противостоять литературной рутине и цепкой житейской суете? Спустя полвека множество книг, что казались значительными и новаторскими, подернулись тленом и немало писателей, когда-то громко заявивших о себе, бесследно исчезли с литературного горизонта. Время неумолимо, оно никому не дает поблажки. Тем более – время нынешнее, отвергнувшее великие критерии и беспощадно презревшее не только классику, но и литературу как нравственный феномен…
Казакову виделись свои гарантии творческого долголетия, неслучайно он соотносил труд писателя, вообще художника с трудом тех, как принято выражаться, «простых людей», что, не мудрствуя лукаво, каждый день, до самой смерти занимаются «грубой, изначальной работой».
В «Северном дневнике» он размышлял: «Давно-давно уже приходит ко мне иногда, является и молча стоит и смущает картина моря или реки и дом на берегу, дом в ущелье, сложенный из хороших бревен, дом с печкой и коричневыми, слегка прокопченными балками. И моя жизнь в этом доме и на берегу моря, и моя работа – ловить ли семгу, рубить ли лес, сплавлять ли его по реке… Разве это не выше моих рассказов или разве помешало бы это им? Наверное, это сделало бы их крепче и достоверней. Потому что мужчина должен узнать пот и соль работы, он должен сам срубить или, наоборот, посадить дерево, или поймать рыбу, чтобы показать людям плоды своего труда, – вещественные и такие необходимые, гораздо необходимее всех рассказов!»
Это признание, в котором слышны хэмингуэевские нотки, не следует трактовать очень уж буквально, в том лишь плане, что литература, писание рассказов – занятие менее «вещественное и необходимое», чем «изначальная работа» людей на земле или в море. Казаков примеривался к натуральной жизни в «доме на берегу» не потому, что подвергал сомнению общечеловеческую и гражданскую важность писательского дела. Он, скорее, хотел доказать самому себе, что и в той жизни, познав «пот и соль» той работы, не посрамил бы себя, – во всяком случае, ему необходимо было в это верить.
Соотнося писательство с «изначальной работой», Казаков не питал никаких иллюзий, о чем еще в декабре 1957 года предупреждал Конецкого – в письме, смахивающем на манифест: «Привет, старик! Получил твое письмо, наполненное слезами. Ты, брат, порешь ерунду. Хотя то, что ты писал до сих пор „не то“, – это факт. В этом, к сожалению, я не могу тебя успокоить. Все твои рассказы – мура и бормотание сивого мерина. Равно так же и мои…» При столь неутешительной оценке их сочинений, Казаков, тем не менее, призывал Конецкого, уверовав в свой талант, не бояться соблазнов молодости. «Молоды мы слишком! – объяснял он. – Я вычитал вон у Мечникова о биологии оптимизма. Он с самым серьезным видом утверждает, что в молодом организме заложены какие-то тлетворные разъедающие вирусы. А этому и примеры есть всюду. Вся трагическая поэзия наша вышла из-под пера мальчиков. Все эти муки, разочарования, чертовщина – у молодых…» – Казаков поминал, в частности, Лермонтова, Есенина. И продолжал: «Единственное средство от этого, я думаю, труд. Чем больше работаешь: пишешь, дрова пилишь или еще что-то, тем меньше тоски и т. п. А еще, не знаю, как тебе, а мне положительно вредна слава. Вредна в том смысле, что делает меня трусливым, т. е. боишься, что не исполнишь того, что ждут от тебя». И рецепт спасения оставался один: «работать, стремиться к совершенству». «Ну и потом, – вразумлял Казаков Конецкого, – еще остается Пушкин, Толстой, Чехов и Бунин, остается Ленинград с его сумасшествием, остается биение сердца при виде прекрасной девочки, остаются слезы от мысли о кратковременности всего земного… Не правы оптимисты, которые считают, что жизнь прекрасна. Не правы также пессимисты, которые считают, что жизнь ужасна. В ней хватает и того и другого. Будь реалистом! – взбадривал Казаков Конецкого. – Талант – ядовитая вещь. Я это знаю, поскольку сам испытал несколько раз в жизни приливы божественности, приливы тоски и мрака, слез по уходящему и много прочего. Мужик пашет, и знает, что делает добро, о котором никакой идиот не скажет, что оно не нужно. А поэт…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: