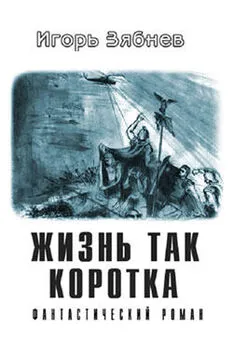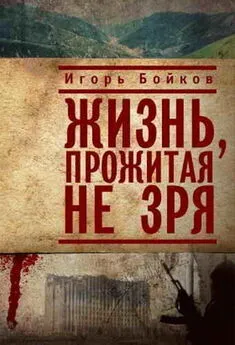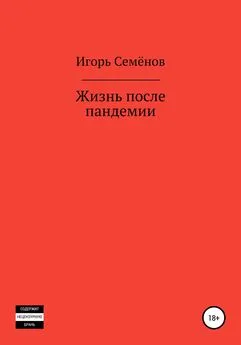Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование
- Название:Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ИП Князев»c779b4e2-f328-11e4-a17c-0025905a0812
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-7439-0160-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование краткое содержание
Юрий Павлович Казаков (1927–1982) – мастер психологического рассказа, продолжатель русской классической традиции, чья проза во второй половине XX века получила мировую известность. Книга И. Кузьмичева насыщена мемуарными свидетельствами и документами; в ней в соответствии с требованиями серии «Жизнь и судьба» помещены в Приложении 130 казаковских писем, ряд уникальных фотографий и несколько казаковских рассказов.
Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Казаковским героям как бы передается чеховская тоска по красоте, по умным, деликатным людям, они всей душой сочувствуют Чехову, улавливая в его невзгодах и душевных страданиях нечто созвучное своим собственным настроениям. «Несчастная была у него жизнь, – говорит друг рассказчика, немало о Чехове прочитавший, – а крепкий все же был человек, настоящий!» Эта крепкость, стойкость чеховского характера, его негромкое мужество больше всего импонируют героям «Проклятого Севера» и самому автору.
Между прочим, Чехов в одном из писем сказал: «Кто постоянно плавает в море, тот любит сушу; кто вечно погружен в прозу, тот страстно тоскует по поэзии». Эти слова будто прямо адресованы казаковским героям, которые словно расшифровывают их на свой лад: «Когда долго живешь в море и видишь все одно и то же: треску, морского окуня, поднимающийся и опускающийся горизонт, вспененную, взлохмаченную поверхность воды, когда в каюте у тебя все ерзает, падает, когда ты сам во сне валишься через бортик койки и только в последнее мгновение цепляешься за что-нибудь и снова забираешься под одеяло, – хочется чего-то высокого и настоящего: настоящих женщин, музыки, настоящей еды, интересных разговоров и тишины».
Герои Казакова тоскуют о поэзии, страстно хотят чего-то высокого и настоящего. И та парадоксальность, с какой уживается в них уверенность в себе с внутренней деликатностью, гордость и бравость с застенчивостью, с каким-то подсознательным смирением, – для них особенно показательна. Как и меланхолическая потерянность в суждениях о любви, неудовлетворенность собой, жалость и снисхождение к «некрасивым женщинам». Мечта о той единственной любви, про которую друг рассказчика говорит: «Может, я как раз хочу, чтоб было такое смертельное, что ли, понимаешь? Чтобы я погорел на этом деле к чертям собачьим! А?»
Впрочем, имело место в замысле еще одно обстоятельство, зафиксированное в первоначальной редакции («Звезда», 2011, № 5). Там, среди прочего, рассказчик вспоминал, как весной посетил туристом Румынию: «что-то такое швейцарское, горное, тихонькое, виллы, дворцы, уютные отели, брусчатка на улицах, горный воздух», канатная дорога к снежным вершинам, лыжники и лыжницы в красных, голубых, желтых и зеленых свитерах, «полным-полно разных шведов, французов и немцев». И как на этом пестром, беспечном празднике он и его тогдашний спутник, в мрачных мешковатых пальто, казались себе убогими, неуклюжими и все твердили фразу, услышанную от журналиста, который издевательски хаял заграничную жизнь – с «разгулом бездельников», «проклятым, смердящим джазом», «прекрасными девушками, гибнущими в пороке», – ханжескую фразу: «Нам становится противно». Вся эта обстановка, зажатость и ущемленность при встрече с людьми внутренне свободными, гнет привычного лицемерия рождали у рассказчика «какую-то эмигрантскую тоску». И это – еще одна краска в душевном облике рассказчика, она-то в печатном варианте «Проклятого Севера» как раз и потерялась.
В марте 1962 года Казаков извещал Конецкого: «В „Знамени“ рассказам моим „Адаму и Еве“ и „Нам становится противно“ – дали отпор. Скорино написала маленькую рецензейку, как поправить рассказы, чтобы они пошли. И в этой рецензейке сто семнадцать пунктов, и если я их все исполню, то получается статья на тему, как стать вегетарианцем, и кастратом, и импотентом. А этого я не хочу, пущай народы, которые этого хотят, сами доходят, своими мозгами, я им в этом не помощник. Так я забрал рассказы, скрипнул прокуренными зубами, ударила мне в голову почти черная кровь (как на меня в пародии написали), и понес их в „Новый мир“ к Твардовскому. И не знаю, сколько там насморкал и наплевал Твардовский, когда их читал».
«Новый мир» рассказы тоже отверг. А Конецкий в ноябре 1963 года писал Казакову: «Очень хочется увидеть рассказ о Ялте напечатанным. Ты его прихвати с собой. Дадим, ради смеха, в „Неву“, а? Всяко бывает. Только почему ты его „Проклятый Север“ назвал? Обидится Север, обозлится, а злить его опасное дело».
Рассказ «Нам становится противно», попутешествовав по редакциям, подвергся жестокой вивисекции в журнале «Москва», где в 1964 году, в № 6, и был опубликован «Проклятый Север», текст которого на две трети повторял первый вариант. Эти начальные две трети особого ущерба не понесли, если не считать пустяковых вычерков (например, было изъято имя Ива Монтана, оказавшегося на тот момент у нас в немилости), а вместо семи финальных страниц (румынский эпизод) автором были вписаны два коротких абзаца, упростившие главную содержательную доминанту прежнего замысла. «Проклятый Север» по-своему целен, только вот объяснение мрачного настроения и тоски у рассказчика и его друга-капитана здесь было урезано.
Герои «Проклятого Севера» в силах критически воспринимать свое душевное состояние, не избегая неутешительных для себя признаний. Как ни иронизируй над их условностью, искренность их страданий очевидна и авторское единодушие с ними несомненно. Скука, как говорил Пушкин, «есть одна из принадлежностей мыслящего существа», – и, может быть, потому казаковские герои не вписываются в общий колорит беззаботного веселья, они лишние на этом пиру и выход из такого положения обязаны искать сами, на свой страх и риск.
Герои Казакова пребывают наедине со своей печалью: «…нам некуда было деваться, а только разговаривать о смысле жизни, о ее краткости, переменчивости, – исповедуется рассказчик, – и чем веселее было вокруг нас, тем грустнее было нам, хотя это и глупо грустить, когда весна, когда ты в Ялте, на берегу прекрасного моря, когда кругом так много людей, и так южно и древне пахнет, так все зовет к бездумности, к счастью – но что делать, и кто виноват, что нам плохо!»
Бездумность и счастье для них несовместимы. Оказавшись, что называется, не у дел, герои рассказа пересматривают свою жизнь, вспоминают молодость, свое знакомство в зимнем Ленинграде, и выясняется, что тогда они были отчаянно веселы, все ждали «чего-то замечательного», грезили Севером, и никакие невзгоды не мешали им просыпаться утром с вопросом: «Что мне сегодня предстоит такое хорошее?» Память подсказывает им имена товарищей, погибших потом в Арктике, подсказывает имена любивших их женщин, извлекает из забвения эпизоды, когда им вдохновенно думалось о «любви и вообще о всех людях», – и причины тоски казаковских героев все больше открываются.
Герои рассказа снова и снова уносятся мыслями к Северу. «Я глядел кругом, будто проснувшись, – признается рассказчик, – и с удивлением думал, зачем мы здесь, и что с рук наших уже сходят мозоли, и что пора назад на Север – там скоро весна, что мы прямо-таки отравлены этим проклятым Севером, что и говорим-то мы все последние дни только о нем, и Чехов хотел на Шпицберген, и, наверное, поэтому нам так скучно. И, думая обо всем этом, я поежился от сладкой печали, от любви к жизни, ко всем ее подаркам, все-таки и не очень редким, если припомнить…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: