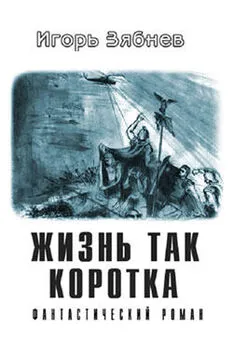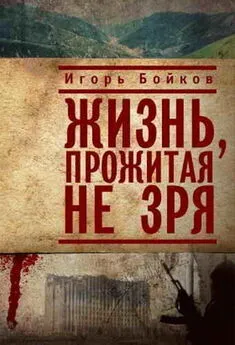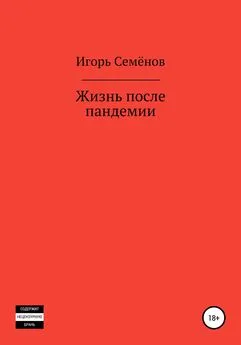Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование
- Название:Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ИП Князев»c779b4e2-f328-11e4-a17c-0025905a0812
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-7439-0160-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование краткое содержание
Юрий Павлович Казаков (1927–1982) – мастер психологического рассказа, продолжатель русской классической традиции, чья проза во второй половине XX века получила мировую известность. Книга И. Кузьмичева насыщена мемуарными свидетельствами и документами; в ней в соответствии с требованиями серии «Жизнь и судьба» помещены в Приложении 130 казаковских писем, ряд уникальных фотографий и несколько казаковских рассказов.
Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И дальше: «На солнце капель, в тени –3°C. Ходил сегодня с А. на лыжах, т. е. он ходил, а я его поддерживал за руку. Так он уморился, что, пообедав, пошел в свою комнату, полез на кровать и не залез – заснул – одна нога на полу, другая на кровати…»
Наблюдать маленького Алешу («прелестного мальчика с волосами пшеничного цвета. Так говорят все, не только я, его отец»), любоваться Алешей, – с этим трепетным переживанием, с этой нежностью ничто не могло сравниться.
Когда Казаков обрел долгожданный свой приют в Абрамцеве, 1960-е годы клонились к закату, – а именно они, эти годы, в особенности первая их половина, стали периодом расцвета казаковского таланта. За короткое время, всего за пять-семь лет, Казаков написал большинство своих известных рассказов и его имя приобрело такую притягательную силу в литературных кругах, что позже критикам казалось, будто и все-то его творчество – лишь один порыв, одно мгновенное и мощное усилие, не получившее затем обещанного завершения.
В. Турбин, например, после смерти Казакова утверждал: «Казаков был человеком первого шага, дебюта… Творчество Казакова – дебют, длившийся несколько лет. Он перестал писать? Замолчал? Смею думать: он замолчал потому, что весь он выложился в дебюте, в шестидесятых годах – годах отличных литературных и социальных дебютов, начал, начинаний, которые не всегда, далеко не всегда находили столь же яркое продолжение».
Между прочим, С. Залыгин аналогичным образом аттестовал Шукшина после смерти: по словам С. Залыгина, Шукшин «никогда и ничего не заключал», а «всегда начинал, все его творчество – это сегодняшнее угадывание своего собственного творческого завтра».
В таких суждениях есть своя доля правды, и все же утверждать, что Казаков «весь выложился в дебюте» – не значит ли упрощать положение вещей? А. Вознесенский, назвавший 1960-е годы «хребтом столетия», сказал об этих годах: «Они были высвечены прожекторами, отсветом иных веков, их судьбы были выпуклыми, яркими…» Именно такими были судьбы Казакова и Шукшина. И того и другого никак не хочется принимать лишь за удачливых дебютантов, за людей первого шага. Они жили настроениями, ритмами 1960-х годов и не только давали авансы, – они в полный голос говорили о том, о чем надлежало им сказать, и потому сделанное ими, велико оно или мало, так заметно и существенно в литературе. Они действительно оба выиграли в дебюте, но кто знает, чего бы они еще добились, проживи дольше и на самом деле выложившись до конца. К тому же ведь и молчание иной раз есть акт творческого поведения.
У Казакова публикование рассказов в периодике тех лет было часто сопряжено со всяческими мелочными к нему придирками, это отнимало душевные силы и нервную энергию, он сокрушался, когда ему предлагали сомнительные переделки, был резок и несговорчив, не уступал и в мелочах, громко настаивал на своем, и в итоге рассказы его все-таки появлялись в журналах, и едва ли не каждый из них удостаивался критических откликов либо попадал в орбиту очередной дискуссии, а редакционные неудовольствия покрывались архивной пылью.
Казаков в 1960-е годы при первой возможности куда-нибудь да уезжал, в самые разные края: в Прибалтику, в Закарпатье, на Кавказ, в Казахстан, но неизменную тягу испытывал, как уже говорилось, к «местам исконно русских поселений». Он не любил приморские южные города, и Одессу, и «все эти Алупки, Алушты, Симеизы», которые с отъездом курортников «закрываются, как театры после спектакля». Другое дело, скажем, Вилково в устье Дуная – основанный беглыми староверами в XVIII веке маленький городок, «плоский, ослепительно белый, залитый солнцем, заросший цветами и виноградом, пересеченный десятками ериков», и его жители – работящие потомственные рыбаки. Казакова восхищала неутомимость, с какой вот уже двести с лишним лет обживали здесь некогда гонимые русские люди Дунай, храня верность древним своим преданиям и обычаям…
И в псковских Печорах, – с их старинным монастырем, монахами и молельными пещерами, – с первого взгляда покоривших «покоем, чистотой и музыкальностью» чувствовал Казаков «необычайно сильное ощущение русского», свою сыновность, свою принадлежность к родной истории…
Но, конечно, самым влекущим оставался для него «тихий зов Севера», с его столицей Архангельском. В «оде Архангельску» – лирическом очерке «Четыре времени года» (1966) – Казаков признавался, что «каждый раз испытывал глухое мощное и постоянное волнение при мысли об истории этого города».
И книги у Казакова в 1960-е годы – хоть и не так регулярно, как он того заслуживал, – издавались, и у нас и за рубежом.
Международная известность, напомню, пришла к Казакову рано, еще до появления сборника «На полустанке». А в 1960-е годы его постоянно печатали в Чехословакии и в Польше, в Англии и в Югославии, в Париже присудили премию за лучшую иностранную книгу, переведенную в 1962-м на французский язык, а в Италии почтили в 1970 году Дантовской премией. Позже география переводов казаковской прозы значительно расширилась: его книги увидели свет в Индии, Таиланде, Испании, Норвегии, Голландии, Швейцарии, США, ФРГ и в других странах на всех континентах. Самому писателю довелось побывать в те годы в Румынии, Болгарии, ГДР, где к его прозе тоже относились с большим пиететом.
Законченных зарубежных путевых очерков Казаков не оставил, но в его рассказах встречаются эпизоды, мелькают воспоминания, навеянные заграничными поездками. Соприкасаясь с незнакомой ему жизнью, Казаков не хотел удовольствоваться впечатлениями туриста, а для углубленного постижения той жизни у него, конечно, недоставало времени. «Что такое заграница для русского? – задавался Казаков вопросом в наброске „И все это два какие-то дни…“. – Не знаю, как другие, но я как-то всегда довольно расплывчато воображаю ночные бары, хорошие отели, пойдешь туда, сюда, завернешь, поплутаешь, выйдешь к фонтану какому-нибудь, к дворцу или церкви, с детства знакомой тебе по открыткам, гомон, незнакомая речь, автомашины – бог знает что! Что-то такое отличное от нашей жизни, незнакомое, чужое, в чем тебе предстоит разобраться». Разобраться во всем, проникнуть в суть, сокрытую за рекламной мишурой, за величавым молчанием памятников и музеев, Казакову очень хотелось, как всегда хотелось ему узнать и полюбить всякого незнакомого человека, где бы он ни жил – в беломорской Лопшеньге или в Париже.
«А в Прагу мы приехали часов в шесть утра, – говорится в том же наброске, – но не сразу приехали, а сперва остановились на мосту над какой-то улицей. Верхние этажи домов этой улицы были с нами вровень, и думалось, вот тут живут какие-то чехи и никогда они не были у нас, где-нибудь на Оке, и никогда мне не суждено прийти к ним в гости, посидеть, поглядеть, какие у них комнаты и как они завтракают, перед тем как идти на работу…» Характерное казаковское настроение!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: