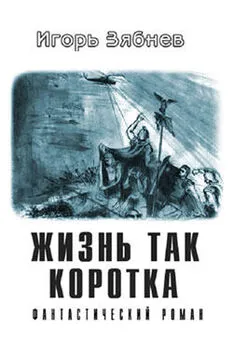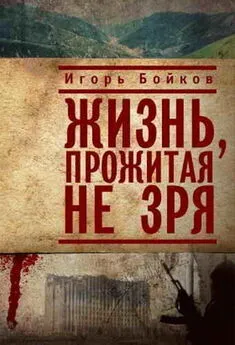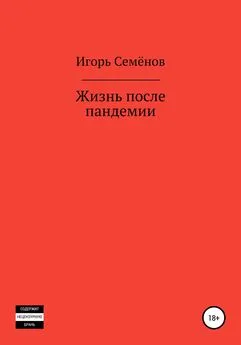Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование
- Название:Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ИП Князев»c779b4e2-f328-11e4-a17c-0025905a0812
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-7439-0160-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование краткое содержание
Юрий Павлович Казаков (1927–1982) – мастер психологического рассказа, продолжатель русской классической традиции, чья проза во второй половине XX века получила мировую известность. Книга И. Кузьмичева насыщена мемуарными свидетельствами и документами; в ней в соответствии с требованиями серии «Жизнь и судьба» помещены в Приложении 130 казаковских писем, ряд уникальных фотографий и несколько казаковских рассказов.
Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Особое место среди зарубежных поездок Казакова занимает его пребывание во Франции – весной 1967 года, – где он по приглашению синдиката французских писателей находился вместе с В. Солоухиным. Те три недели, что провел Казаков в Париже и Провансе, когда о нем оживленно писали парижские газеты, выдались напряженными и увлекательными: деловые приемы в издательствах, встречи с видными литераторами, переводчиками, с художниками, например с Марком Шагалом, пресс-конференции и просто приглашения в гости до предела заполнили те дни. И хотя программа была строго расписана, все-таки удавалось и отклоняться от нее – Казаков пробовал отыскать во Франции живые бунинские следы.
В Париже виделся он с Борисом Зайцевым и позже рассказывал, что «даже вздрогнул от какого-то страха», когда тот сказал, что познакомился с Буниным в 1902 году: «…тогда еще Чехов был жив! Восемь лет еще было до смерти Толстого, Горький, Куприн, Бунин были молодыми, едва ли не начинающими писателями… Сколько великих и страшных событий случилось с тех пор во всем мире, какие эпохи миновали, а собственная жизнь, может быть, и не кажется Б. Зайцеву столь уж долгой…»
К счастью, уцелела на пленке запись беседы Казакова с Б. Зайцевым («Новый мир», 1990, № 7). Старый писатель рассказывал тогда о себе, о своей кровной причастности к русской деревне, о том, что все его детство и ранняя молодость – родился он в Орле в 1881 году – прошли в захудалом именьице под Калугой; рассказывал о московском литературном кружке «Среда», где, по его словам, главными действующими лицами были Л. Андреев, Н. Телешов, куда наведывался Чехов; где приблизительно в 1902 году он познакомился с Буниным и тот ему сразу «как-то понравился непосредственно, внеразумно». Отношения с Буниным складывались у Б. Зайцева не совсем равноправные – Бунин был старше на одиннадцать лет, – складывались своеобразно: «Я находился, – рассказывал Б. Зайцев Казакову, – на грани между декадентством, символизмом, с одной стороны, а другим концом как-то к реалистическому лагерю более принадлежал. Так что мое положение было такое, что все мои приятели, многие, и знакомые левого крыла, литературного, они на Бунина всегда нападали как на реалиста, и я всегда защищал его с этой стороны… С другой стороны, Бунин всегда их ругал, понимаете, вот Блока там, Белого, – и тут я ему возражал…» Общение с Буниным продолжалось у Б. Зайцева полвека. Он вспоминал о Вере Муромцевой, с которой дружила его жена и которую Бунин, не обвенчавшись, увез в 1907 году в путешествие в Палестину; о московских празднествах в 1910 году, когда Бунин «получил академика»; об их встрече в Париже в 1920-х годах; о частых поездках в Грасс; о том, каким небывалым событием для всей русской эмиграции стало присуждение Бунину Нобелевской премии; о последних годах Бунина, когда он со многими из эмигрантов, в том числе и с Б. Зайцевым, перессорился…
Интересуясь прежде всего Буниным, Казаков вел в этой беседе, если угодно, и свою партию. Остро чувствуя, что перед ним «живая история», он тем не менее не робел, держался открыто, говорил, что ему больно думать о годах, которые провели здесь, вдали от своего народа, русские писатели. Б. Зайцев объяснял, что «с этим миром» у них ничего общего нет, за сорок лет он так и не выучился толком французскому языку, а вот наиболее зрелые свои произведения эмигранты написали как раз за рубежом своей страны – произведения, «конечно, связанные с Россией, явно», – да и жили они все это время «собственно, Россией – внутренно, но не Россией революционной, нет, это нет», это был для них тоже мир чуждый и далекий. В разговоре у них возникла тема участия или неучастия писателя в общественных делах, и Б. Зайцев признался, что из-за характера своего «был чрезвычайно далек от всякой общественности всегда», на что Казаков возразил: «Писатель может не участвовать в общественных делах, то есть не выступать на собраниях, не писать статей, не быть там председателем разных комитетов и так далее. Но писатель не может отстраниться от жизни своей страны, своего народа. Не только своего народа, но вообще всего мира. Писателя, как и любого человека, не могут не волновать какие-то события в мире…» И добавлял, что недавно тут не доспорил с молодым французским авангардистом, который считает писателей вообще свободными от ответственности перед обществом, однако он, Казаков, «не понимает достоинства этой свободы». И Б. Зайцев с ним соглашался: «Это неверно, все ответственны…»
Вот такой вели они разговор. Не только Бунин, сама Россия была предметом их размышлений.
Не знаю, сколь обстоятельно Казаков читал книги Б. Зайцева, имевшего в свое время репутацию «поэта прозы», – Куприн называл его талант «таким простым, вдумчивым, элегическим, таким тонким», – но, без сомнения, он обнаружил бы в зайцевской манере немало для себя родственного: и лиричность, и музыкальность, и сильно развитое чувство природы, и автобиографизм, переплавленный в исповедь очевидца трагической эпохи. Им обоим, и тому и другому, разделенным, казалось бы, пропастью лет, был одинаково дорог «пейзаж и климат русской литературы», душевный и трогательный, как писал Б. Зайцев, «человечнейший и христианнейший из всех».
Ну и конечно Казаков не мог бы остаться равнодушным к рассказу Б. Зайцева «Улица Св. Николая», – если он его читал, – поэтическому монологу об Арбате. «Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремления – это ты, Арбат…» – так грустил Б. Зайцев в 1921 году, и легко себе представить, какой сердечный отклик эти строки могли бы вызвать у Казакова. Образ Арбата в этом рассказе одновременно конкретен и символичен, пленителен и жесток, провидчески тревожен и взывает к мужеству. Волны истории, набегая, меняли его облик в XX веке, Арбат торжествовал и каялся, богател и беззаботничал, шумели над ним «метели страшные», и житель его, «гражданин Арбата», закалялся в горниле событий, «грозных и свирепых». «Много нагрешил ты, – обращался к нему Б. Зайцев, – заплатил недешево. Но такова жизнь. И не стоит на месте. Налетела буря, пронеслась, карая, взвешивая, встряхивая, – стала тихнуть. Утомились воевать и ненавидеть; начал силу забирать обычный день – атомная пружина человечества… А ты живешь, – и это звучало уже как обращение к потомку, – в жизни новейшей, вновь беспощадной, среди богатых и бедных, даровитых и бездарных, неудачников, счастливцев. Не позабывай уроков. Будь спокоен, скромен, сдержан. Призывай любовь и кротость, столь безмерно изгнанных, столь поруганных… Плачь с плачущими. Замерзай с замерзшими и голодай с голодными. Но не гаси себя и не сдавайся плену мелкой жизни, мелкого стяжательства, ты, русский, гражданин Арбата…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: